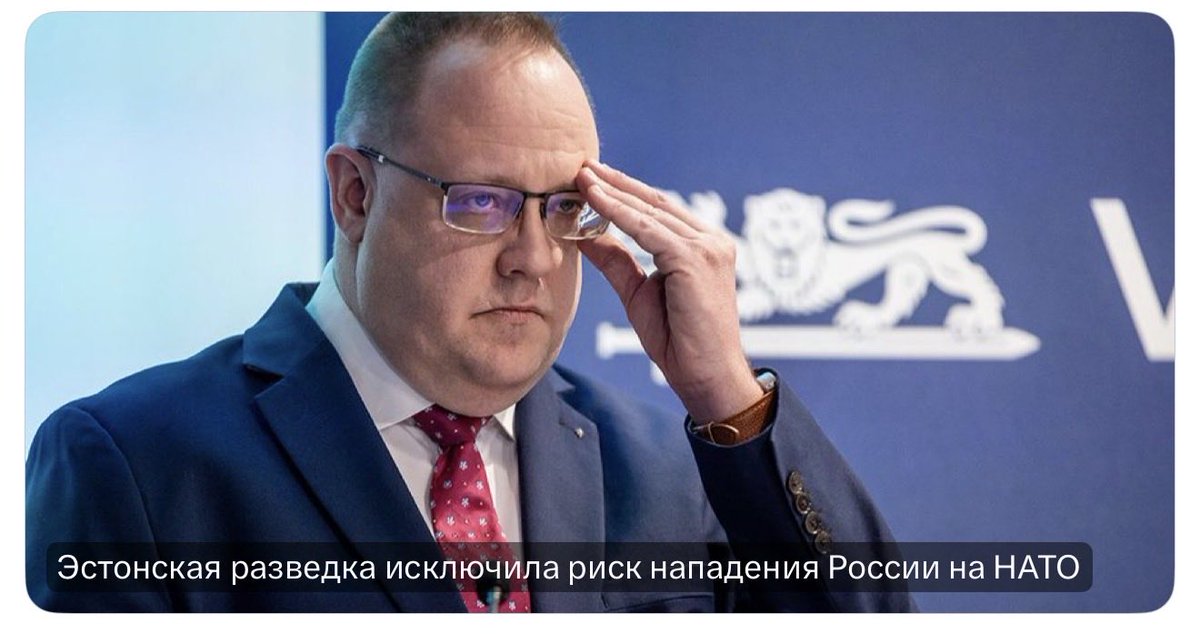Игорь-Северянин. In atrium post mortem. 7
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
02.02.19 | 2974
 Вторая половина жизнеописания замечательного Игоря-Северянина, посвящённая эмиграции, помимо уже указанных общих недостатков коллективного труда Шубниковой и Терёхиной, благоухает филоложеством. Термин до конца неопределённый, описывающей некое филологическое извращение, свойственное логофилии. На практике это означает, что утверждения авторов трудно оспаривать, потому что они так видят, так чувствуют, так понимают, так своё понимание излагают. И логика тут бессильна.
Вторая половина жизнеописания замечательного Игоря-Северянина, посвящённая эмиграции, помимо уже указанных общих недостатков коллективного труда Шубниковой и Терёхиной, благоухает филоложеством. Термин до конца неопределённый, описывающей некое филологическое извращение, свойственное логофилии. На практике это означает, что утверждения авторов трудно оспаривать, потому что они так видят, так чувствуют, так понимают, так своё понимание излагают. И логика тут бессильна.
Жизнеописание эмигрантского бытия поэта раскрывает страшную тайну: оказывается, авторов не просто двое: то, что знает автор эмигрантской части, неведомо автору части дореволюционной. Например, автор дореволюционной части ничего не знает про стихи, посвящённые Волнянской, зато автор эмигрантской части знает даже про стихотворение «Музе музык». Однако этот же автор ничего не знает про жизнь Игоря-Северянина в эмиграции, пусть и вынужденной, пусть и на положении дачника и, разумеется, ничего не знает о его гастрольной деятельности в этот период. Автор прячется за цитаты, скрепляя их филоложеством, и таким образом, как бы фиксирует аксиологическую приоритетность феноменов рациональности, дискурсивности и логоса в контексте русской культуры за рубежом. Ну, вот про логофилию как-то так…
Эмигрантское жизнеописание поэта начинается с уже рассмотренного эпизода: переселения из Петрограда в Тойла, и, хотя второй топоним не склоняется, склонять его будут до конца книги.
Автор эмигрантской части дополняет женский обоз Еленой Семеновой и малолетней Валерией. Про Марию Неупокоеву вновь ни слова. Утверждается, что 13 марта 1918 года по старому стилю (!) поэт написал в Ревеле стихотворение «Музе Музык», посвящённое трёхлетию встречи с Волнянской (стр. 210) Между тем на странице 184 указана совсем другая дата – 18 февраля 1915. Я почти уверен в том, что знакомство и близкое знакомство состоялись в разных местах и в разное время. Так, например, познакомились на железнодорожной платформе в Харькове 14 февраля, а в номер гостиницы Волнянская постучалась уже 18-го числа. Такому безнравственному поступку должно же предшествовать хоть минимальное знакомство. Итого, 9 марта механически соединено с годовщиной знакомства, а для того, чтобы запудрить читателю мозги сделана оговорка – по старому стилю. По какому старому?
Филоложество не заставляет себя ждать:
«Прощайте, русские уловки:
Въезжаем в чуждую страну...
Бежать нельзя: вокруг винтовки
Мир заключён, но мы в плену.
Так произошло прощание с отчизной, без ненужных сантиментов и обличений, несмотря на соответствующие аллюзии: «Прощай, немытая Россия», «ужасный век», «ужасные дороги». Изменилось не только географическое положение, но и государственная принадлежность поэта. По Брестскому миру, сепаратно заключённому советской Россией с Германией 3 марта 1918 года, Эстония перестала быть её частью. Независимость была провозглашена ещё раньше — 24 февраля, немецкие войска оккупировали эстонскую территорию, установив для приезжающих из России карантин, вследствие чего Северянин был задержан. И все-таки Северянин въезжал в Эстонию королём поэтов. Это была самая настоящая, несколько актёрская слава».
Простите, но одно дело въехать королём с актёрской славой, другое дело прожить без внимания публики целый год, вплоть до первого концерта 22 марта 1919 года в Ревеле (Таллинне). Уж и не знаю, доводилось ли Шубниковой и Терёхиной бывать в Тойла, но я-то знаю, что мать поэта, Семёнова с дочерью и престарелая няня зимовали в одном из домов семейства Круут. Игорь-Северянин и Мария Волнянская пережили холодное время у соседей семейства Круут, а летом ютились в крохотном каменном сарае. Электричества в Тойла не было. Освещение – керосиновая лампа, лучина и свечи. Заработков никаких. Пойти или поехать некуда. Весной, осенью и зимой небо затянуто облаками, жидкий срач валится на голову и ноги утопают в нём. Рацион питания гарантированно туберкулёзный. Вот, что нужно было жизнеописывать про Тойла, а не про актёрскую славу, добытую по брезгливости Маяковского.
Этот первый год в Эстонии сильно повлиял на поэта, подорвал здоровье (обострение туберкулёза, сильнейшая депрессия), изменил мировоззрение до того, что он забыл про поход на Берлин и даже приветствовал Ленина в связи с заключением сепаратного Брестского мира:
Его бесспорная заслуга
Есть окончание войны.
Его приветствовать, как друга
Людей, вы искренне должны.
Я — вне политики, и, право,
Мне всё равно, кто б ни был он.
Да будет честь ему и слава,
Что мир им, первым, заключён!
Когда людская жизнь в загоне,
И вдруг — её апологет,
Не все ль равно мне — как: в вагоне
Запломбированном иль нет?..
Не только из вагона — прямо
Пускай из бездны бы возник!
Твержу настойчиво-упрямо:
Он, в смысле мира, мой двойник.
С апреля по декабрь 1918 года написано всего 20 стихотворений, последнее называется выразительно — «Конечное ничто»:
Мы призраками дуализма
Приведены в такой испуг,
Что даже солнечная призма
Таит грозящий нам недуг.
Грядёт Антихрист? не Христос ли?
Иль оба вместе? Раньше — кто?
Сначала тьма? не свет ли после?
Иль погрузимся мы в ничто?
Да, Игорь-Северянин — это король, но не король поэзии, а король Лир после того, как раздербанил своё царство. Шубникова и Терёхина не были в Даляне и Порт-Артуре, не были в Гатчине, не были в Риге, Варшаве, Берлине, Вильно, Кишинёве, Париже и Бухаресте, не были в Тойла, а я был. У них чисто академические представления о практической географии — описания современников.
Однажды зимой я ночевал в Тойла в той комнате, которая нынче называется кабинетом поэта. Из окон , проложенных ватой и заклеенных на зиму, несёт холодом. В сенях холодный и тесный сортир, в котором жопа примерзает утром к деревянному стульчаку, произвёл на меня незабываемое впечатление. А ведь этим сортиром поэт пользовался несколько лет, причём без жалоб красавице Одоевцевой на неудобство деревенских удобств. Я понимаю что такое 1918 год в Тойла, понимаю, каково это быть дачником на живописных и головокружных берегах пресветлой Эстии.
О, да! Это всё проза жизни, недостойная жизнеописания поэта, но попробуйте придумать что-нибудь лирическое или возвышенное, примерзая к толчку. И вот какое чудо, свершилось в холодном толчке:
«”К смиренью примиряющей воды”, к “соловьям монастырского сада”, к мечте о “воспрявшей России”, к ”любви коронной” обращается Северянин. Он обрёл то “лёгкое и от природы свободное дыхание”, которое, как отмечал Николай Оцуп, редко встретишь у современных поэтов». (Стр. 213)
Но ведь филоложество – это принцип, и уже на следующей странице находим:
«К ностальгии присоединялись вполне реальные трудности оккупационного режима, а с уходом немецкой армии — военного положения в Эстонии до 1920 года. В конце ноября 1918 года Красная армия начала наступление и формально установила на значительной части территории Эстонии (в том числе и в Тойле) советскую власть. Она продержалась до февраля 1919 года. В этих обстоятельствах, окружённый беспомощными женщинами, не привыкший добывать средства к жизни иначе как поэтическим словом, Северянин даже в знакомой Тойле чувствовал себя оторванным от мира, заброшенным на необитаемый остров. Подобно Робинзону он писал записки с координатами своей хижины, переписывал несколько стихотворений для печати и рассылал на авось во все стороны света — от Риги до Нью-Йорка. Ответов не было и не могло быть — его адресаты и сами ещё не ощутили твёрдую почву под ногами — эмиграция только начиналась».

«Адресная книга», возвращённая исследователям.
Сложно оспаривать трудности оккупационных режимов, но советская власть в занюханном Тойла, которая продержалась от января 1918 года до февраля, – это нечто! Записки с координатами Тойла есть авторская фантазия, но уже не из 1918-го, а из 1920 года. Автор эмигрантской части без сомнения слышал про документ из фондов Эстонского литературного музей под названием «Записная книга И.В.Лотарёва. Eesti, Toila. 1920 г.» Это такая конторская книга, которую поэт завёл 24-25 мая 1920 года. Первоначально — записи о разосланных по редакциям стихах, позже нечто похожее на дореволюционные альбомы, заполненные материалами из бюро газетных вырезок (была такая услуга).
В своё время мне пришлось изрядно повозиться, чтобы вернуть исследователям записи, заклеенные газетными вырезками. Проблема состояла в том, что записи были сделаны частично чернилами, частично карандашом, а вырезки частично приклеены конторским клеем, частично мучным клейстером

Семейство Круут – сёстры (Фелисса справа) и мать Лина Юрьевна. Справа дом, в котором поэт жил с молодой женой с 1922 по 1927 год. Слева дом, в который супруги Лотарёвы переехали в 1927 году. Видна крыша той части дома, которая сгорела во время войны. Посредине каменный сарай – летнее пристанище поэта в 1918-1920 годах.

Автор с племянницей поэта Ниной Георгиевной Аршас в Тойла. Справа от двери окно холодного сортира.
Продолжение следует.
__________________
Начало смотри здесь, продолжение 2 здесь, продолжение 3 здесь, продолжение 4 здесь, продолжение 5 здесь, продолжение 6 здесь
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
02.02.19 | 2974
 Вторая половина жизнеописания замечательного Игоря-Северянина, посвящённая эмиграции, помимо уже указанных общих недостатков коллективного труда Шубниковой и Терёхиной, благоухает филоложеством. Термин до конца неопределённый, описывающей некое филологическое извращение, свойственное логофилии. На практике это означает, что утверждения авторов трудно оспаривать, потому что они так видят, так чувствуют, так понимают, так своё понимание излагают. И логика тут бессильна.
Вторая половина жизнеописания замечательного Игоря-Северянина, посвящённая эмиграции, помимо уже указанных общих недостатков коллективного труда Шубниковой и Терёхиной, благоухает филоложеством. Термин до конца неопределённый, описывающей некое филологическое извращение, свойственное логофилии. На практике это означает, что утверждения авторов трудно оспаривать, потому что они так видят, так чувствуют, так понимают, так своё понимание излагают. И логика тут бессильна.Жизнеописание эмигрантского бытия поэта раскрывает страшную тайну: оказывается, авторов не просто двое: то, что знает автор эмигрантской части, неведомо автору части дореволюционной. Например, автор дореволюционной части ничего не знает про стихи, посвящённые Волнянской, зато автор эмигрантской части знает даже про стихотворение «Музе музык». Однако этот же автор ничего не знает про жизнь Игоря-Северянина в эмиграции, пусть и вынужденной, пусть и на положении дачника и, разумеется, ничего не знает о его гастрольной деятельности в этот период. Автор прячется за цитаты, скрепляя их филоложеством, и таким образом, как бы фиксирует аксиологическую приоритетность феноменов рациональности, дискурсивности и логоса в контексте русской культуры за рубежом. Ну, вот про логофилию как-то так…
Эмигрантское жизнеописание поэта начинается с уже рассмотренного эпизода: переселения из Петрограда в Тойла, и, хотя второй топоним не склоняется, склонять его будут до конца книги.
Автор эмигрантской части дополняет женский обоз Еленой Семеновой и малолетней Валерией. Про Марию Неупокоеву вновь ни слова. Утверждается, что 13 марта 1918 года по старому стилю (!) поэт написал в Ревеле стихотворение «Музе Музык», посвящённое трёхлетию встречи с Волнянской (стр. 210) Между тем на странице 184 указана совсем другая дата – 18 февраля 1915. Я почти уверен в том, что знакомство и близкое знакомство состоялись в разных местах и в разное время. Так, например, познакомились на железнодорожной платформе в Харькове 14 февраля, а в номер гостиницы Волнянская постучалась уже 18-го числа. Такому безнравственному поступку должно же предшествовать хоть минимальное знакомство. Итого, 9 марта механически соединено с годовщиной знакомства, а для того, чтобы запудрить читателю мозги сделана оговорка – по старому стилю. По какому старому?
Филоложество не заставляет себя ждать:
«Прощайте, русские уловки:
Въезжаем в чуждую страну...
Бежать нельзя: вокруг винтовки
Мир заключён, но мы в плену.
Так произошло прощание с отчизной, без ненужных сантиментов и обличений, несмотря на соответствующие аллюзии: «Прощай, немытая Россия», «ужасный век», «ужасные дороги». Изменилось не только географическое положение, но и государственная принадлежность поэта. По Брестскому миру, сепаратно заключённому советской Россией с Германией 3 марта 1918 года, Эстония перестала быть её частью. Независимость была провозглашена ещё раньше — 24 февраля, немецкие войска оккупировали эстонскую территорию, установив для приезжающих из России карантин, вследствие чего Северянин был задержан. И все-таки Северянин въезжал в Эстонию королём поэтов. Это была самая настоящая, несколько актёрская слава».
Простите, но одно дело въехать королём с актёрской славой, другое дело прожить без внимания публики целый год, вплоть до первого концерта 22 марта 1919 года в Ревеле (Таллинне). Уж и не знаю, доводилось ли Шубниковой и Терёхиной бывать в Тойла, но я-то знаю, что мать поэта, Семёнова с дочерью и престарелая няня зимовали в одном из домов семейства Круут. Игорь-Северянин и Мария Волнянская пережили холодное время у соседей семейства Круут, а летом ютились в крохотном каменном сарае. Электричества в Тойла не было. Освещение – керосиновая лампа, лучина и свечи. Заработков никаких. Пойти или поехать некуда. Весной, осенью и зимой небо затянуто облаками, жидкий срач валится на голову и ноги утопают в нём. Рацион питания гарантированно туберкулёзный. Вот, что нужно было жизнеописывать про Тойла, а не про актёрскую славу, добытую по брезгливости Маяковского.
Этот первый год в Эстонии сильно повлиял на поэта, подорвал здоровье (обострение туберкулёза, сильнейшая депрессия), изменил мировоззрение до того, что он забыл про поход на Берлин и даже приветствовал Ленина в связи с заключением сепаратного Брестского мира:
Его бесспорная заслуга
Есть окончание войны.
Его приветствовать, как друга
Людей, вы искренне должны.
Я — вне политики, и, право,
Мне всё равно, кто б ни был он.
Да будет честь ему и слава,
Что мир им, первым, заключён!
Когда людская жизнь в загоне,
И вдруг — её апологет,
Не все ль равно мне — как: в вагоне
Запломбированном иль нет?..
Не только из вагона — прямо
Пускай из бездны бы возник!
Твержу настойчиво-упрямо:
Он, в смысле мира, мой двойник.
С апреля по декабрь 1918 года написано всего 20 стихотворений, последнее называется выразительно — «Конечное ничто»:
Мы призраками дуализма
Приведены в такой испуг,
Что даже солнечная призма
Таит грозящий нам недуг.
Грядёт Антихрист? не Христос ли?
Иль оба вместе? Раньше — кто?
Сначала тьма? не свет ли после?
Иль погрузимся мы в ничто?
Да, Игорь-Северянин — это король, но не король поэзии, а король Лир после того, как раздербанил своё царство. Шубникова и Терёхина не были в Даляне и Порт-Артуре, не были в Гатчине, не были в Риге, Варшаве, Берлине, Вильно, Кишинёве, Париже и Бухаресте, не были в Тойла, а я был. У них чисто академические представления о практической географии — описания современников.
Однажды зимой я ночевал в Тойла в той комнате, которая нынче называется кабинетом поэта. Из окон , проложенных ватой и заклеенных на зиму, несёт холодом. В сенях холодный и тесный сортир, в котором жопа примерзает утром к деревянному стульчаку, произвёл на меня незабываемое впечатление. А ведь этим сортиром поэт пользовался несколько лет, причём без жалоб красавице Одоевцевой на неудобство деревенских удобств. Я понимаю что такое 1918 год в Тойла, понимаю, каково это быть дачником на живописных и головокружных берегах пресветлой Эстии.
О, да! Это всё проза жизни, недостойная жизнеописания поэта, но попробуйте придумать что-нибудь лирическое или возвышенное, примерзая к толчку. И вот какое чудо, свершилось в холодном толчке:
«”К смиренью примиряющей воды”, к “соловьям монастырского сада”, к мечте о “воспрявшей России”, к ”любви коронной” обращается Северянин. Он обрёл то “лёгкое и от природы свободное дыхание”, которое, как отмечал Николай Оцуп, редко встретишь у современных поэтов». (Стр. 213)
Но ведь филоложество – это принцип, и уже на следующей странице находим:
«К ностальгии присоединялись вполне реальные трудности оккупационного режима, а с уходом немецкой армии — военного положения в Эстонии до 1920 года. В конце ноября 1918 года Красная армия начала наступление и формально установила на значительной части территории Эстонии (в том числе и в Тойле) советскую власть. Она продержалась до февраля 1919 года. В этих обстоятельствах, окружённый беспомощными женщинами, не привыкший добывать средства к жизни иначе как поэтическим словом, Северянин даже в знакомой Тойле чувствовал себя оторванным от мира, заброшенным на необитаемый остров. Подобно Робинзону он писал записки с координатами своей хижины, переписывал несколько стихотворений для печати и рассылал на авось во все стороны света — от Риги до Нью-Йорка. Ответов не было и не могло быть — его адресаты и сами ещё не ощутили твёрдую почву под ногами — эмиграция только начиналась».

«Адресная книга», возвращённая исследователям.
Сложно оспаривать трудности оккупационных режимов, но советская власть в занюханном Тойла, которая продержалась от января 1918 года до февраля, – это нечто! Записки с координатами Тойла есть авторская фантазия, но уже не из 1918-го, а из 1920 года. Автор эмигрантской части без сомнения слышал про документ из фондов Эстонского литературного музей под названием «Записная книга И.В.Лотарёва. Eesti, Toila. 1920 г.» Это такая конторская книга, которую поэт завёл 24-25 мая 1920 года. Первоначально — записи о разосланных по редакциям стихах, позже нечто похожее на дореволюционные альбомы, заполненные материалами из бюро газетных вырезок (была такая услуга).
В своё время мне пришлось изрядно повозиться, чтобы вернуть исследователям записи, заклеенные газетными вырезками. Проблема состояла в том, что записи были сделаны частично чернилами, частично карандашом, а вырезки частично приклеены конторским клеем, частично мучным клейстером

Семейство Круут – сёстры (Фелисса справа) и мать Лина Юрьевна. Справа дом, в котором поэт жил с молодой женой с 1922 по 1927 год. Слева дом, в который супруги Лотарёвы переехали в 1927 году. Видна крыша той части дома, которая сгорела во время войны. Посредине каменный сарай – летнее пристанище поэта в 1918-1920 годах.

Автор с племянницей поэта Ниной Георгиевной Аршас в Тойла. Справа от двери окно холодного сортира.
Продолжение следует.
__________________
Начало смотри здесь, продолжение 2 здесь, продолжение 3 здесь, продолжение 4 здесь, продолжение 5 здесь, продолжение 6 здесь