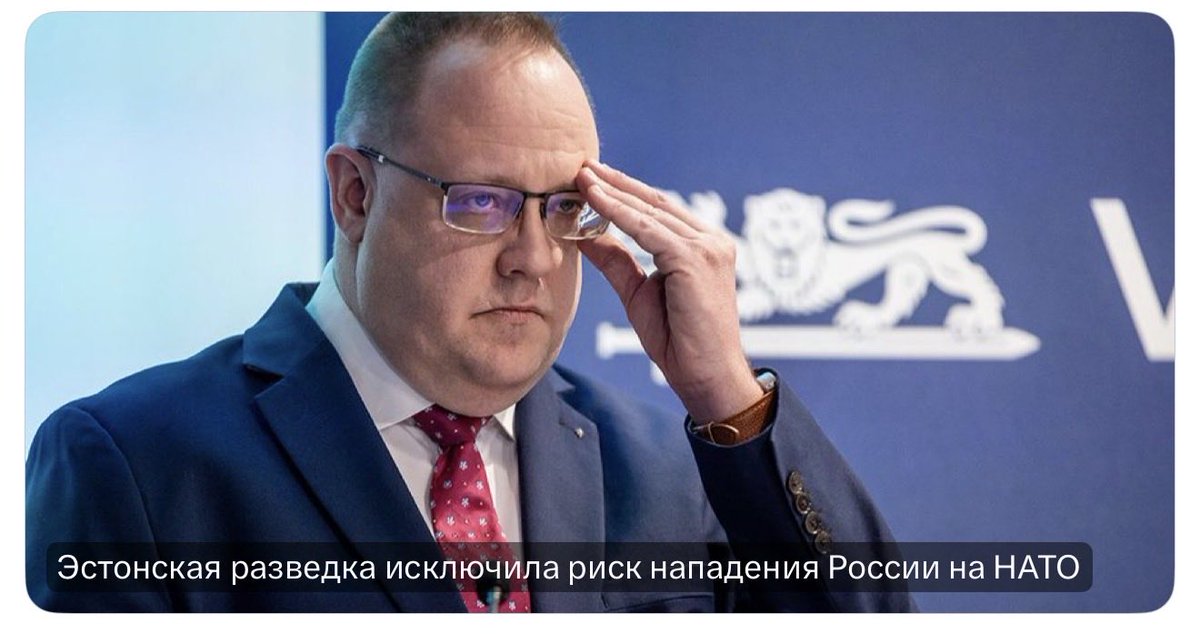Игорь-Северянин. In atrium post mortem. 3
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
23.01.19 | 2042
 Читая жизнеописание замечательного человека Игоря-Северянина в исполнении Шубниковой и Терёхиной, боюсь задохнуться, вычёсывая блох. Повествование скачет от сюжета к сюжету, время стасовано словно карты в колоде. Напоминает «воспоминания» последней сожительницы поэта Веры Борисовны Коренди, использовавший тот же полемический приём. Когда старушка хотела проиллюстрировать мысль, которая владела ею сиюминутно, она легко сдвигала временные пласты и тасовала события.
Читая жизнеописание замечательного человека Игоря-Северянина в исполнении Шубниковой и Терёхиной, боюсь задохнуться, вычёсывая блох. Повествование скачет от сюжета к сюжету, время стасовано словно карты в колоде. Напоминает «воспоминания» последней сожительницы поэта Веры Борисовны Коренди, использовавший тот же полемический приём. Когда старушка хотела проиллюстрировать мысль, которая владела ею сиюминутно, она легко сдвигала временные пласты и тасовала события.
Кстати о времени и календарных датах. Хорошо, когда в тексте есть авторское указание на принцип использования календарей. Для первых двух десятилетий прошлого века – это просто необходимо. Желательно также, чтобы хронологическая канва была близка к естественной. Например, в работе Шубниковой и Терехиной похороны Врубеля (3 апреля 1910 года) и похороны Фофанова (20 мая 1911 года) разделяет не просто календарный год, а 20 страниц текста! Похороны Фофанова на 44-й странице, а похороны Врубеля на 64-й!
Попутно два замечания. Первое касается отношения к материалу: есть разница между профессиональным и, условно говоря, дилетантским подходом к материалу. Профессионала устраивает академический подход к событию – главное, чтобы всё было оформлено по правилам. Академическое оформление освобождает от необходимости искать личные впечатления и проверять. Для дилетанта в этой песне священен каждый слог, поэтому он поедет на кладбище Новодевичьего монастыря и на отшибе найдёт обе могилы – шикарное многотонное надгробие Врубеля и более чем скромный – дилетантский цветник на могиле Фофанова.
Из текста Шубниковой и Терёхиной явствует, что на кладбище они не были и свечу на могиле Фофанова не затеплили. Помните гатчинскую историю про «Охотничий дворец» Павла I? Они там тоже не были и поэтому легко запустили в оборот феньку, про дачу нищего поэта в 17 комнат и 4 кладовых в императорском дворце.

Кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге. Могила Врубеля. За могилой слева обелиск на могиле Фофанова.

Могила Константина Фофанова.
Второе замечание вновь касается некритического отношения к цитируемым текстам:
«20 мая, когда Фофанова хоронили, Северянин вышел к могиле и прочёл стихи, которые критик Измайлов назвал «простыми и трогательными».
Милый Вы мой и добрый! Ведь Вы так измучились
От вечного одиночества, от одиночного холода...» (стр.44)
Начнём с того, что Измайлов на похоронах Фофанова не присутствовал и слышать этого стихотворения никак не мог, но в рецензии соврал, как очевидец:
«Игорь Северянин платил ему явным обожанием, и я мог видеть, что смерть Фофанова потрясла его. Когда К.М. хоронили, И.С. вышел к могиле и прочёл простые, но задушевные и трогательные стихи:
Милый вы мой и добрый! Ведь, вы так измучились —
От вечнаго одиночества, от одиночнаго холода...»
Фокус в том, что стихотворение «Над гробом Фофанова» имеет неопределённую датировку – май 1911, что в случае Игоря-Северянина говорит о многом. Например, о том, что оно не могло быть написано ни накануне, ни в день похорон. В противном случае оно имело бы точную датировку – Игорь Васильевич был педант, особенно в том, что касалось творчества. Так что критик Александр Измайлов увидел понравившиеся ему строки только в 1913 году в сборнике «Громокипящий кубок».
Ещё разок сошлюсь на сатиру Сашу Чёрного «Недержание», в каком-то смысле содержание которой применимо и к Игорю-Северянину тоже:
У поэта умерла жена…
Он её любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.
После похорон пришёл домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«у поэта умерла жена».
Ну, поехали дальше благословясь. Вопрос знакомства с Маяковским, который как мы помним был заявлен уже на 11 странице, возникает на странице 77, но повиснув в воздухе возникает вновь на странице 125. История одна, а размазана по столу как манная каша. Девчата умеют растянуть удовольствие!
Вариантов всего три: знакомство в Москве в ресторане «Бар» — версия Шершеневича; знакомство в петербургском ресторане «Вена» — версия Лившица, оборванная авторами в кабинете Кульбина; наконец, знакомство неизвестно где, но при посредничестве Софии Сергеевны Шамардиной.
Игорь-Северянин, поражая нечаянной забывчивостью, написал в очерке «Моё о Маяковском»:
«Странно: теперь я не помню, как мы познакомились с Володей: не то кто-то привёл его ко мне, не то мы встретились на одном из бесчисленных вечеров-диспутов в СПб. (...) ... Я теперь жалею, что в своё время недооценил его глубинности и хорошести (...) Мешали мне моя строптивость и заносчивость юношеская, самовлюблённость глуповатая и какое-то общее скольжение по окружающему. В значительной степени это относится к женщинам. В последнем случае последствия иногда были непоправимыми и коверкали жизнь, болезненно и отрицательно отражаясь на творчестве».
Ещё до того, как Игорь-Северянин познакомился с Владимиром Маяковским, в его жизнь вошла юная слушательница Бестужевских курсов София Сергеевна Шамардина. Одним из хмурых сентябрьских дней 1913 года Сонка легко и непринуждённо перешагнула порог квартиры поэта на Средней Подьяческой, 5. Давайте вместе восхитимся тому, как это вхождение описано в романе «Колокола собора чувств»:
И мы в любовь, как в грезоломню,
Летим, подвластные лучу
Необъяснимого влеченья,
И, может быть, предназначенья,
Повелевающей судьбы,
Её покорные рабы.
Шамардина тоже претендует на то, что именно она познакомила Игоря-Северянина с Маяковским. Однако София Сергеевна благоразумно умолчала о конкретных обстоятельствах знакомства двух поэтов.
«Маяковский знал, что я встречаюсь с Северяниным, и часто издевался надо мной по этому поводу. Футуристом он его не считал никаким и отзывался о нем не очень лестно, хотя и удостаивал иногда лёгкой похвалы».
Версия Шамардиной кажется Шубниковой и Терёхиной наиболее подходящей, поэтому оборвали наиболее достоверные воспоминания Бенедикта Лившица на пристальном взоре Кульбина:
«Пригласив к себе Маяковского и меня, он познакомил нас с Северяниным, которого я до тех пор ни разу не видел. Северянин находился тогда в апогее славы. (...) Маяковскому, как я уже упоминал, нравились его стихи, и он нередко полуиронически, полусерьёзно напевал их про себя. (...) Мы сидели вчетвером в обвешанном картинами кабинете Кульбина, где кроме медицинских книг, ничего не напоминало о профессии хозяина. Беседа не вязалась. Говорил один Кульбин, поочерёдно останавливая на каждом из нас пристальный взор». (Стр. 78-79)
Что ж, я продолжу оборванную дамочками цитату из «Полутораглазого стрельца»:
«Однако выгоды от этого блока представлялись нам незначительными. Мы медлили, так как торопиться было незачем. Тогда Кульбин предложил поехать в "Вену", зная по опыту, что в подобных местах самые трезвые взгляды быстро теряют всякую устойчивость. Действительно к концу ужина от нашей мудрой осторожности не осталось и следа. Кульбин торжествовал (...) Неделю спустя мы уже выступали совместно в пользу каких-то женских курсов».
Лившиц, единственный из трёх очевидцев, у кого есть конкретная деталь знакомства: первое совместное выступление Игоря-Северянина и Владимира Маяковского состоялось 2 ноября 1913 года в зале Петербургского женского медицинского института (Высшие женские курсы). На этот концерт Игорь-Северянин пришёл с Шамардиной, а ушёл с ней Владимир Маяковский. Разумеется, в тот вечер Шамардина понятия не имела об инициативе генерала Кульбина и пьянке в ресторане «Вена». Впрочем, у говоруна Чуковского есть красочное описание ночи знакомства Шамардиной и Маяковского, которая закончилась в каморке сонного Велимира Хлебникова.
Сам Северянин ушёл с выступления с поэтессой Валентиной Солнцевой (Газдевич), и не исключено, что в тот вечер поэтессу привёл на курсы Маяковский — как-то же она оказалась невестой сразу двух гениев одновременно? При этом я помню, что, согласно классической версии, Гадзевич была занята продажей афиш (программок).
Боюсь показаться привередливым, но текст дюже блохастый.
___________________
Начало смотри здесь,
продолжение здесь,
Продолжение следует.
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
23.01.19 | 2042
 Читая жизнеописание замечательного человека Игоря-Северянина в исполнении Шубниковой и Терёхиной, боюсь задохнуться, вычёсывая блох. Повествование скачет от сюжета к сюжету, время стасовано словно карты в колоде. Напоминает «воспоминания» последней сожительницы поэта Веры Борисовны Коренди, использовавший тот же полемический приём. Когда старушка хотела проиллюстрировать мысль, которая владела ею сиюминутно, она легко сдвигала временные пласты и тасовала события.
Читая жизнеописание замечательного человека Игоря-Северянина в исполнении Шубниковой и Терёхиной, боюсь задохнуться, вычёсывая блох. Повествование скачет от сюжета к сюжету, время стасовано словно карты в колоде. Напоминает «воспоминания» последней сожительницы поэта Веры Борисовны Коренди, использовавший тот же полемический приём. Когда старушка хотела проиллюстрировать мысль, которая владела ею сиюминутно, она легко сдвигала временные пласты и тасовала события.Кстати о времени и календарных датах. Хорошо, когда в тексте есть авторское указание на принцип использования календарей. Для первых двух десятилетий прошлого века – это просто необходимо. Желательно также, чтобы хронологическая канва была близка к естественной. Например, в работе Шубниковой и Терехиной похороны Врубеля (3 апреля 1910 года) и похороны Фофанова (20 мая 1911 года) разделяет не просто календарный год, а 20 страниц текста! Похороны Фофанова на 44-й странице, а похороны Врубеля на 64-й!
Попутно два замечания. Первое касается отношения к материалу: есть разница между профессиональным и, условно говоря, дилетантским подходом к материалу. Профессионала устраивает академический подход к событию – главное, чтобы всё было оформлено по правилам. Академическое оформление освобождает от необходимости искать личные впечатления и проверять. Для дилетанта в этой песне священен каждый слог, поэтому он поедет на кладбище Новодевичьего монастыря и на отшибе найдёт обе могилы – шикарное многотонное надгробие Врубеля и более чем скромный – дилетантский цветник на могиле Фофанова.
Из текста Шубниковой и Терёхиной явствует, что на кладбище они не были и свечу на могиле Фофанова не затеплили. Помните гатчинскую историю про «Охотничий дворец» Павла I? Они там тоже не были и поэтому легко запустили в оборот феньку, про дачу нищего поэта в 17 комнат и 4 кладовых в императорском дворце.

Кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге. Могила Врубеля. За могилой слева обелиск на могиле Фофанова.

Могила Константина Фофанова.
Второе замечание вновь касается некритического отношения к цитируемым текстам:
«20 мая, когда Фофанова хоронили, Северянин вышел к могиле и прочёл стихи, которые критик Измайлов назвал «простыми и трогательными».
Милый Вы мой и добрый! Ведь Вы так измучились
От вечного одиночества, от одиночного холода...» (стр.44)
Начнём с того, что Измайлов на похоронах Фофанова не присутствовал и слышать этого стихотворения никак не мог, но в рецензии соврал, как очевидец:
«Игорь Северянин платил ему явным обожанием, и я мог видеть, что смерть Фофанова потрясла его. Когда К.М. хоронили, И.С. вышел к могиле и прочёл простые, но задушевные и трогательные стихи:
Милый вы мой и добрый! Ведь, вы так измучились —
От вечнаго одиночества, от одиночнаго холода...»
Фокус в том, что стихотворение «Над гробом Фофанова» имеет неопределённую датировку – май 1911, что в случае Игоря-Северянина говорит о многом. Например, о том, что оно не могло быть написано ни накануне, ни в день похорон. В противном случае оно имело бы точную датировку – Игорь Васильевич был педант, особенно в том, что касалось творчества. Так что критик Александр Измайлов увидел понравившиеся ему строки только в 1913 году в сборнике «Громокипящий кубок».
Ещё разок сошлюсь на сатиру Сашу Чёрного «Недержание», в каком-то смысле содержание которой применимо и к Игорю-Северянину тоже:
У поэта умерла жена…
Он её любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.
После похорон пришёл домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«у поэта умерла жена».
Ну, поехали дальше благословясь. Вопрос знакомства с Маяковским, который как мы помним был заявлен уже на 11 странице, возникает на странице 77, но повиснув в воздухе возникает вновь на странице 125. История одна, а размазана по столу как манная каша. Девчата умеют растянуть удовольствие!
Вариантов всего три: знакомство в Москве в ресторане «Бар» — версия Шершеневича; знакомство в петербургском ресторане «Вена» — версия Лившица, оборванная авторами в кабинете Кульбина; наконец, знакомство неизвестно где, но при посредничестве Софии Сергеевны Шамардиной.
Игорь-Северянин, поражая нечаянной забывчивостью, написал в очерке «Моё о Маяковском»:
«Странно: теперь я не помню, как мы познакомились с Володей: не то кто-то привёл его ко мне, не то мы встретились на одном из бесчисленных вечеров-диспутов в СПб. (...) ... Я теперь жалею, что в своё время недооценил его глубинности и хорошести (...) Мешали мне моя строптивость и заносчивость юношеская, самовлюблённость глуповатая и какое-то общее скольжение по окружающему. В значительной степени это относится к женщинам. В последнем случае последствия иногда были непоправимыми и коверкали жизнь, болезненно и отрицательно отражаясь на творчестве».
Ещё до того, как Игорь-Северянин познакомился с Владимиром Маяковским, в его жизнь вошла юная слушательница Бестужевских курсов София Сергеевна Шамардина. Одним из хмурых сентябрьских дней 1913 года Сонка легко и непринуждённо перешагнула порог квартиры поэта на Средней Подьяческой, 5. Давайте вместе восхитимся тому, как это вхождение описано в романе «Колокола собора чувств»:
И мы в любовь, как в грезоломню,
Летим, подвластные лучу
Необъяснимого влеченья,
И, может быть, предназначенья,
Повелевающей судьбы,
Её покорные рабы.
Шамардина тоже претендует на то, что именно она познакомила Игоря-Северянина с Маяковским. Однако София Сергеевна благоразумно умолчала о конкретных обстоятельствах знакомства двух поэтов.
«Маяковский знал, что я встречаюсь с Северяниным, и часто издевался надо мной по этому поводу. Футуристом он его не считал никаким и отзывался о нем не очень лестно, хотя и удостаивал иногда лёгкой похвалы».
Версия Шамардиной кажется Шубниковой и Терёхиной наиболее подходящей, поэтому оборвали наиболее достоверные воспоминания Бенедикта Лившица на пристальном взоре Кульбина:
«Пригласив к себе Маяковского и меня, он познакомил нас с Северяниным, которого я до тех пор ни разу не видел. Северянин находился тогда в апогее славы. (...) Маяковскому, как я уже упоминал, нравились его стихи, и он нередко полуиронически, полусерьёзно напевал их про себя. (...) Мы сидели вчетвером в обвешанном картинами кабинете Кульбина, где кроме медицинских книг, ничего не напоминало о профессии хозяина. Беседа не вязалась. Говорил один Кульбин, поочерёдно останавливая на каждом из нас пристальный взор». (Стр. 78-79)
Что ж, я продолжу оборванную дамочками цитату из «Полутораглазого стрельца»:
«Однако выгоды от этого блока представлялись нам незначительными. Мы медлили, так как торопиться было незачем. Тогда Кульбин предложил поехать в "Вену", зная по опыту, что в подобных местах самые трезвые взгляды быстро теряют всякую устойчивость. Действительно к концу ужина от нашей мудрой осторожности не осталось и следа. Кульбин торжествовал (...) Неделю спустя мы уже выступали совместно в пользу каких-то женских курсов».
Лившиц, единственный из трёх очевидцев, у кого есть конкретная деталь знакомства: первое совместное выступление Игоря-Северянина и Владимира Маяковского состоялось 2 ноября 1913 года в зале Петербургского женского медицинского института (Высшие женские курсы). На этот концерт Игорь-Северянин пришёл с Шамардиной, а ушёл с ней Владимир Маяковский. Разумеется, в тот вечер Шамардина понятия не имела об инициативе генерала Кульбина и пьянке в ресторане «Вена». Впрочем, у говоруна Чуковского есть красочное описание ночи знакомства Шамардиной и Маяковского, которая закончилась в каморке сонного Велимира Хлебникова.
Сам Северянин ушёл с выступления с поэтессой Валентиной Солнцевой (Газдевич), и не исключено, что в тот вечер поэтессу привёл на курсы Маяковский — как-то же она оказалась невестой сразу двух гениев одновременно? При этом я помню, что, согласно классической версии, Гадзевич была занята продажей афиш (программок).
Боюсь показаться привередливым, но текст дюже блохастый.
___________________
Начало смотри здесь,
продолжение здесь,
Продолжение следует.