Игорь-Северянин. In atrium post mortem. 10
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
13.02.19 | 2710
 Простите, что пришлось сделать небольшой перерыв: разбор трудов Шубниковой и Терёхиной слегка утомил меня своей однообразностью.
Простите, что пришлось сделать небольшой перерыв: разбор трудов Шубниковой и Терёхиной слегка утомил меня своей однообразностью.
Гастроли Игоря-Северянина в Латвии и Литве авторы уложили в четыре страницы 230-233 (с хвостиком). Между тем, поэт трижды выступал в Литве, например, в Шавли в театре «Фантазия» при участии Марии Волнянской, артиста итальянской оперы С.Ульмана и пианиста Алекса Брауэра. В период с 1921 по 1929 год Игорь-Северянин выступал в Латвии 22 раза. Последние выступления в кинотеатре «Капитолий» были краткими, но зато регулярными. 2 ноября 1927 года в Двинске состоялся Поэзовечер при участии поэта Арсения Формакова, организованный Двинским русским академическим обществом. В ноябре того же года 7 вечеров в театре «Тагона» при участии актрисы Елены Кузнецовой. Газета «Сегодня» поместила отчёт о вечере 8 ноября:
Первое выступление Игоря Северянина
и Е.Кузнецовой в «Тагоне»
Театр «Тагон» вчера оживился. Выступление Игоря Северянина с эстрады с чтением своих стихов — и старых и новых — привлекло в театр много новой публики, среди которой можно было заметить немало видных лиц из литературного и художественного мира. На долю поэта выпал огромный успех — до сих пор видно не перевелись неистовые поклонники и, главным образом, поклонницы его, без конца аплодировавшие, стучавшие и требовавшие повторения. Поэту поднесли белые хризантемы.
Читал свои стихотворения Игорь Северянин в своеобразной напевной манере, придающей какую то особенную, оригинально чеканную выразительность этим поэтическим миниатюрам, в которых так много нежного чувства, в которых льётся через край любовь к природе и человеку. Печатью подлинного вдохновения отмечено творчество Игоря Северянина. В двух-трёх строфах, одним двумя сильными образами дарована ему способность пленять человеческое сердце. Трудно отметить лучшее из прочитанных им стихотворений — мне кажется, это были «Соловьи монастырского сада».
Новый дух, живой и свежей, внесла Е.Кузнецова в постановку русских скетчей на сцене «Тагона». Трагифарс «Кому принадлежит Елена?» под, её руководством проходит в темпе настоящего фарсового веселья, подчас явно заражающего самих артистов. Роль Елены, запутавшейся между двумя своим мужьями дневным и ночным, артистка проводит в четких комедийных тонах, скрашенных природным юмором, подчёркнутых выразительностью интонации, мимики и жеста. <…> (Рига, «Сегодня», 9 ноября 1927 года.)
Оба интервью помещены под одним заголовком. По времени совпадают с серией ежедневных выступлений поэта в Риге в театре «Тагона» в период с 8 по 14 ноября 1927 года.
Не могу удержаться от того, чтобы не привести длинную цитату из беседы с поэтом Николая Истомина:
«— Раньше во мне было много молодого задора, рассказывает Игорь Северянин и то, что я писал, нельзя понимать, как понимали и понимают ещё до сих пор почти все мои читатели и критики. Мои прежние темы, приёмы — это, ведь, особая, так сказать, ироническая лирика, а критика приняла все это всерьёз, вообразив, что в этом и весь Северянин.
—А вы, Игорь Васильевич, много теперь пишете? И что именно?
—Пишу стихи, статьи, воспоминания... Работаю, между прочим, всегда осенью и зимою. А летом почти ничего не пишу. По вечерам или по ночам не люблю сидеть и обыкновенно принимаюсь за работу с утра.
— И как именно? По Бальмонтовски: «Но я не размышляю над стихом», или...
— Нет, наоборот: размышляю долго. Придерживаюсь Пушкинско-Брюссовской школы. Впрочем, некоторые из своих последних поэм писал всего по нескольку дней — импровизацией.
Северянин увлекательно рассказывает о своём житье:
— Живу на самом берегу, в маленькой рыбацкой деревушке Тойла, которая когда-то была курортом. Из окна виден Финский залив.
Свою избушку постарались сделать по возможности комфортабельной. Внутри — уют и даже некоторая претензия на модерн.
Вокруг — глушь, леса, озера. До ближайшей станции восемь вёрст, а до ближайшего города, до Нарвы — сорок. Все лето рыболовствую. У меня есть лодочка «Ингрит», на которой я совершаю путешествия. Ухожу из дому на рыбную ловлю на насколько дней. Зимою же много катаюсь на лыжах, много читаю — русских и европейских классиков. За новейшей же русской литературой слежу плохо, так как, ведь, в моей глуши новых книг не достать.
— Что самое радостное и самое прискорбное в деятельности и звании поэта?
— Самое радостное — это, когда живёшь с природой, когда пишешь стихи, когда читаешь их на специальных вечерах: перед любителями и ценителями поэзии. А самое прискорбное — это читать перед случайной аудиторией. Прискорбно также, когда в моем присутствии говорят о политике, которая есть не что иное, как преднамеренная вражда.
— Вас не тянет, Игорь Васильевич, в Россию?
— Как вам сказать? Проехаться по России я бы не прочь, но жить там не собираюсь. Тамошняя обстановка нервирует, волнует.
— А кем бы вы, И. В., были, если бы не были поэтом? — задаю я последний вопрос.
— О, конечно, рыболовом». («Воскресенье», № 2, 1927 год.)
Эта прямая речь поэта для описания его жизни в эмиграции значит больше, чем цитаты из чужих описаний и сентенций.

Арсений Формаков, Фелисса и Игорь Лотарёвы
2 марта 1929 года ещё один Поэзовечер при участии Арсения Формакова в Двинске, организованная Двинским учительским союзом. Кстати, Шубникова и Терёхина Формакова не заметили, его имени нет в списке использованной литературы. Между тем на странице 128-прим помещён портрет Игоря-Северянина, сделанный в 1926 году в Тойла именно Арсением Формаковым. Разумеется портрет помещён без указания авторства. Понимаю, что в Москве плевать на какого-то там Формакова, но здесь, в странах Балтии поэт Арсений Формаков персонаж известный и уважаемый.
На странице 239 помянут Константин Бальмонт и посвящённый ему сонет (первая строфа):
Коростеля владимирских полей
Жизнь обрядила пышностью павлиньей…
Но помнить: нет родней грустянки синей
И севера нет ничего милей…
Известно, что Игорь-Северянин воздерживался от правки ранних стихов:
«Я — противник автопредисловий: моё дело — петь, дело критики и публики судить моё пение. Но мне хочется раз навсегда сказать, что я, очень строго по-своему, отношусь к своим стихам и печатаю только те поэзы, которые мною не уничтожены, т. е. жизненны. Работаю над стихом много, руководствуясь только интуицией; исправлять же старые стихи, сообразно с совершенствующимся все время вкусом, нахожу убийственным для них: ясно, в своё время они меня вполне удовлетворяли, если я тогда же их не сжёг. Заменять же какое-либо неудачное, того периода, выражение «изыском сего дня» — неправильно: этим умерщвляется то, сокровенное, в чём зачастую нерв всей поэзы. Мертворождённое сжигается мною, а если живое иногда и не совсем прекрасно,— допускаю, даже уродливо,— я не могу его уничтожить: оно вызвано мною к жизни, оно мне мило, наконец, оно — моё!» (Автопредисловие к «Громокипящему кубку» в издании Пашуканиса.
Полагаю, что именитые академические филоложицы должны бы знать, что сонет «Бальмонт» имеет любопытную историю. Прежде всего, напомним, что сонет был написан в 1926 году. Он есть в рукописи, но в сборнике «Медальоны» его нет. Неожиданно сонет всплывает в рукописи «Очаровательные разочарования», но уже значительно изменённом виде и с указанием совсем другой датировки: Кишинёв, 3 января 1934 года, первая публикация в журнале «Золотой петушок».
Он в юношеской песенке своей,
Подёрнутой в легчайший лунный иней,
Очаровательнее был, чем ныне
В разгульно-гулкой радуге огней.
Он тот поэт, который тусклым людям
Лученье дал, сказав: «Как Солнце, будем!»
И рифм душистых бросил вороха,
Кто всю страну стихийными стихами
Поверг к стопам в незримом глазу храме,
Воздвигнутом в честь Русского Стиха.
Редакция второго катрена и финальных терцетов в 1926 году выглядела несколько иначе:
Он в юношеской песенке своей,
Подёрнутою в лёгкий лунный иней,
Очаровательнее был, чем ныне
В стихийно-гулкой радуге огней.
Он в многословье нестерпимо пышен,
Во всём преувеличенно-возвышен,
Хрустевший льдинкой в юности поэт.
И сходство внешнее с испанским грандом,
И творчество, глушащее джаз-бандом,
Всё – как на солнце выгретый Моэт…
В воздухе повисает вопрос: что за чёрная кошка пробежала между поэтами в 1926 году? Я, например, не знаю, а Шубникова с Терёхиной понятия не имеют о том, что кошка вообще была. Почему сонет был подправлен в 1934 году мне понятно: настояла Любовь Столица, которую не устраивала ссора с Бальмонтом со страниц журнала «Золотой Петушок. Однако исправленный вариант сонета в сборник «Медальоны» не попал, хотя вариант 1926 года из него всё же был изъят. Любопытно? Ещё как!
На странице 243 Терёхина и Шубникова вновь помянули Ирину Одоевцеву И.Г.Гейнеке) и посвящённый ей сонет – без цитат! – содержание которого отчасти объясняет унизительные для поэта «мемуары» Ираиды Густавовны. Что ж, восполним пробел:
Все у неё прелестно — даже «ну»
Извозчичье, с чем несовместна прелесть...
Нежданнее, чем листопад в апреле,
Стих, в ней открывший жуткую жену...
Серпом небрежности я не сожну
Посевов, что взошли на акварели...
Смущают иронические трели
Насторожившуюся вышину.
Прелестна дружба с жуткими котами, —
Что изредка к лицу неглупой даме, —
Кому в самом раю разрешено
Прогуливаться запросто, в побывку
Свою в раю вносящей тонкий привкус
Острот, каких эдему не дано...
Очень похоже на то, что Пильский в устной форме всё же донёс до Игоря-Северянина содержание «литературных завтраков» у Мильруда — прелестна дружба с жуткими котами. Не случайно, хотя и чуть позже, поэт заметит, что все заграничные знакомые — сволочи.
Продолжение следует.
__________________
Начало смотри здесь, продолжение 2 здесь, продолжение 3 здесь, продолжение 4 здесь, продолжение 5 здесь, продолжение 6 здесь, продолжение 7 здесь, продолжение 8 здесь продолжение 9 здесь
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
13.02.19 | 2710
 Простите, что пришлось сделать небольшой перерыв: разбор трудов Шубниковой и Терёхиной слегка утомил меня своей однообразностью.
Простите, что пришлось сделать небольшой перерыв: разбор трудов Шубниковой и Терёхиной слегка утомил меня своей однообразностью.Гастроли Игоря-Северянина в Латвии и Литве авторы уложили в четыре страницы 230-233 (с хвостиком). Между тем, поэт трижды выступал в Литве, например, в Шавли в театре «Фантазия» при участии Марии Волнянской, артиста итальянской оперы С.Ульмана и пианиста Алекса Брауэра. В период с 1921 по 1929 год Игорь-Северянин выступал в Латвии 22 раза. Последние выступления в кинотеатре «Капитолий» были краткими, но зато регулярными. 2 ноября 1927 года в Двинске состоялся Поэзовечер при участии поэта Арсения Формакова, организованный Двинским русским академическим обществом. В ноябре того же года 7 вечеров в театре «Тагона» при участии актрисы Елены Кузнецовой. Газета «Сегодня» поместила отчёт о вечере 8 ноября:
Первое выступление Игоря Северянина
и Е.Кузнецовой в «Тагоне»
Театр «Тагон» вчера оживился. Выступление Игоря Северянина с эстрады с чтением своих стихов — и старых и новых — привлекло в театр много новой публики, среди которой можно было заметить немало видных лиц из литературного и художественного мира. На долю поэта выпал огромный успех — до сих пор видно не перевелись неистовые поклонники и, главным образом, поклонницы его, без конца аплодировавшие, стучавшие и требовавшие повторения. Поэту поднесли белые хризантемы.
Читал свои стихотворения Игорь Северянин в своеобразной напевной манере, придающей какую то особенную, оригинально чеканную выразительность этим поэтическим миниатюрам, в которых так много нежного чувства, в которых льётся через край любовь к природе и человеку. Печатью подлинного вдохновения отмечено творчество Игоря Северянина. В двух-трёх строфах, одним двумя сильными образами дарована ему способность пленять человеческое сердце. Трудно отметить лучшее из прочитанных им стихотворений — мне кажется, это были «Соловьи монастырского сада».
Новый дух, живой и свежей, внесла Е.Кузнецова в постановку русских скетчей на сцене «Тагона». Трагифарс «Кому принадлежит Елена?» под, её руководством проходит в темпе настоящего фарсового веселья, подчас явно заражающего самих артистов. Роль Елены, запутавшейся между двумя своим мужьями дневным и ночным, артистка проводит в четких комедийных тонах, скрашенных природным юмором, подчёркнутых выразительностью интонации, мимики и жеста. <…> (Рига, «Сегодня», 9 ноября 1927 года.)
Оба интервью помещены под одним заголовком. По времени совпадают с серией ежедневных выступлений поэта в Риге в театре «Тагона» в период с 8 по 14 ноября 1927 года.
Не могу удержаться от того, чтобы не привести длинную цитату из беседы с поэтом Николая Истомина:
«— Раньше во мне было много молодого задора, рассказывает Игорь Северянин и то, что я писал, нельзя понимать, как понимали и понимают ещё до сих пор почти все мои читатели и критики. Мои прежние темы, приёмы — это, ведь, особая, так сказать, ироническая лирика, а критика приняла все это всерьёз, вообразив, что в этом и весь Северянин.
—А вы, Игорь Васильевич, много теперь пишете? И что именно?
—Пишу стихи, статьи, воспоминания... Работаю, между прочим, всегда осенью и зимою. А летом почти ничего не пишу. По вечерам или по ночам не люблю сидеть и обыкновенно принимаюсь за работу с утра.
— И как именно? По Бальмонтовски: «Но я не размышляю над стихом», или...
— Нет, наоборот: размышляю долго. Придерживаюсь Пушкинско-Брюссовской школы. Впрочем, некоторые из своих последних поэм писал всего по нескольку дней — импровизацией.
Северянин увлекательно рассказывает о своём житье:
— Живу на самом берегу, в маленькой рыбацкой деревушке Тойла, которая когда-то была курортом. Из окна виден Финский залив.
Свою избушку постарались сделать по возможности комфортабельной. Внутри — уют и даже некоторая претензия на модерн.
Вокруг — глушь, леса, озера. До ближайшей станции восемь вёрст, а до ближайшего города, до Нарвы — сорок. Все лето рыболовствую. У меня есть лодочка «Ингрит», на которой я совершаю путешествия. Ухожу из дому на рыбную ловлю на насколько дней. Зимою же много катаюсь на лыжах, много читаю — русских и европейских классиков. За новейшей же русской литературой слежу плохо, так как, ведь, в моей глуши новых книг не достать.
— Что самое радостное и самое прискорбное в деятельности и звании поэта?
— Самое радостное — это, когда живёшь с природой, когда пишешь стихи, когда читаешь их на специальных вечерах: перед любителями и ценителями поэзии. А самое прискорбное — это читать перед случайной аудиторией. Прискорбно также, когда в моем присутствии говорят о политике, которая есть не что иное, как преднамеренная вражда.
— Вас не тянет, Игорь Васильевич, в Россию?
— Как вам сказать? Проехаться по России я бы не прочь, но жить там не собираюсь. Тамошняя обстановка нервирует, волнует.
— А кем бы вы, И. В., были, если бы не были поэтом? — задаю я последний вопрос.
— О, конечно, рыболовом». («Воскресенье», № 2, 1927 год.)
Эта прямая речь поэта для описания его жизни в эмиграции значит больше, чем цитаты из чужих описаний и сентенций.

Арсений Формаков, Фелисса и Игорь Лотарёвы
2 марта 1929 года ещё один Поэзовечер при участии Арсения Формакова в Двинске, организованная Двинским учительским союзом. Кстати, Шубникова и Терёхина Формакова не заметили, его имени нет в списке использованной литературы. Между тем на странице 128-прим помещён портрет Игоря-Северянина, сделанный в 1926 году в Тойла именно Арсением Формаковым. Разумеется портрет помещён без указания авторства. Понимаю, что в Москве плевать на какого-то там Формакова, но здесь, в странах Балтии поэт Арсений Формаков персонаж известный и уважаемый.
На странице 239 помянут Константин Бальмонт и посвящённый ему сонет (первая строфа):
Коростеля владимирских полей
Жизнь обрядила пышностью павлиньей…
Но помнить: нет родней грустянки синей
И севера нет ничего милей…
Известно, что Игорь-Северянин воздерживался от правки ранних стихов:
«Я — противник автопредисловий: моё дело — петь, дело критики и публики судить моё пение. Но мне хочется раз навсегда сказать, что я, очень строго по-своему, отношусь к своим стихам и печатаю только те поэзы, которые мною не уничтожены, т. е. жизненны. Работаю над стихом много, руководствуясь только интуицией; исправлять же старые стихи, сообразно с совершенствующимся все время вкусом, нахожу убийственным для них: ясно, в своё время они меня вполне удовлетворяли, если я тогда же их не сжёг. Заменять же какое-либо неудачное, того периода, выражение «изыском сего дня» — неправильно: этим умерщвляется то, сокровенное, в чём зачастую нерв всей поэзы. Мертворождённое сжигается мною, а если живое иногда и не совсем прекрасно,— допускаю, даже уродливо,— я не могу его уничтожить: оно вызвано мною к жизни, оно мне мило, наконец, оно — моё!» (Автопредисловие к «Громокипящему кубку» в издании Пашуканиса.
Полагаю, что именитые академические филоложицы должны бы знать, что сонет «Бальмонт» имеет любопытную историю. Прежде всего, напомним, что сонет был написан в 1926 году. Он есть в рукописи, но в сборнике «Медальоны» его нет. Неожиданно сонет всплывает в рукописи «Очаровательные разочарования», но уже значительно изменённом виде и с указанием совсем другой датировки: Кишинёв, 3 января 1934 года, первая публикация в журнале «Золотой петушок».
Он в юношеской песенке своей,
Подёрнутой в легчайший лунный иней,
Очаровательнее был, чем ныне
В разгульно-гулкой радуге огней.
Он тот поэт, который тусклым людям
Лученье дал, сказав: «Как Солнце, будем!»
И рифм душистых бросил вороха,
Кто всю страну стихийными стихами
Поверг к стопам в незримом глазу храме,
Воздвигнутом в честь Русского Стиха.
Редакция второго катрена и финальных терцетов в 1926 году выглядела несколько иначе:
Он в юношеской песенке своей,
Подёрнутою в лёгкий лунный иней,
Очаровательнее был, чем ныне
В стихийно-гулкой радуге огней.
Он в многословье нестерпимо пышен,
Во всём преувеличенно-возвышен,
Хрустевший льдинкой в юности поэт.
И сходство внешнее с испанским грандом,
И творчество, глушащее джаз-бандом,
Всё – как на солнце выгретый Моэт…
В воздухе повисает вопрос: что за чёрная кошка пробежала между поэтами в 1926 году? Я, например, не знаю, а Шубникова с Терёхиной понятия не имеют о том, что кошка вообще была. Почему сонет был подправлен в 1934 году мне понятно: настояла Любовь Столица, которую не устраивала ссора с Бальмонтом со страниц журнала «Золотой Петушок. Однако исправленный вариант сонета в сборник «Медальоны» не попал, хотя вариант 1926 года из него всё же был изъят. Любопытно? Ещё как!
На странице 243 Терёхина и Шубникова вновь помянули Ирину Одоевцеву И.Г.Гейнеке) и посвящённый ей сонет – без цитат! – содержание которого отчасти объясняет унизительные для поэта «мемуары» Ираиды Густавовны. Что ж, восполним пробел:
Все у неё прелестно — даже «ну»
Извозчичье, с чем несовместна прелесть...
Нежданнее, чем листопад в апреле,
Стих, в ней открывший жуткую жену...
Серпом небрежности я не сожну
Посевов, что взошли на акварели...
Смущают иронические трели
Насторожившуюся вышину.
Прелестна дружба с жуткими котами, —
Что изредка к лицу неглупой даме, —
Кому в самом раю разрешено
Прогуливаться запросто, в побывку
Свою в раю вносящей тонкий привкус
Острот, каких эдему не дано...
Очень похоже на то, что Пильский в устной форме всё же донёс до Игоря-Северянина содержание «литературных завтраков» у Мильруда — прелестна дружба с жуткими котами. Не случайно, хотя и чуть позже, поэт заметит, что все заграничные знакомые — сволочи.
Продолжение следует.
__________________
Начало смотри здесь, продолжение 2 здесь, продолжение 3 здесь, продолжение 4 здесь, продолжение 5 здесь, продолжение 6 здесь, продолжение 7 здесь, продолжение 8 здесь продолжение 9 здесь
Последние новости
Генерал-майор запаса Неэме Вяли об инцидентах в Европе: идет нулевая фаза гибридной войны
30.12.25 14
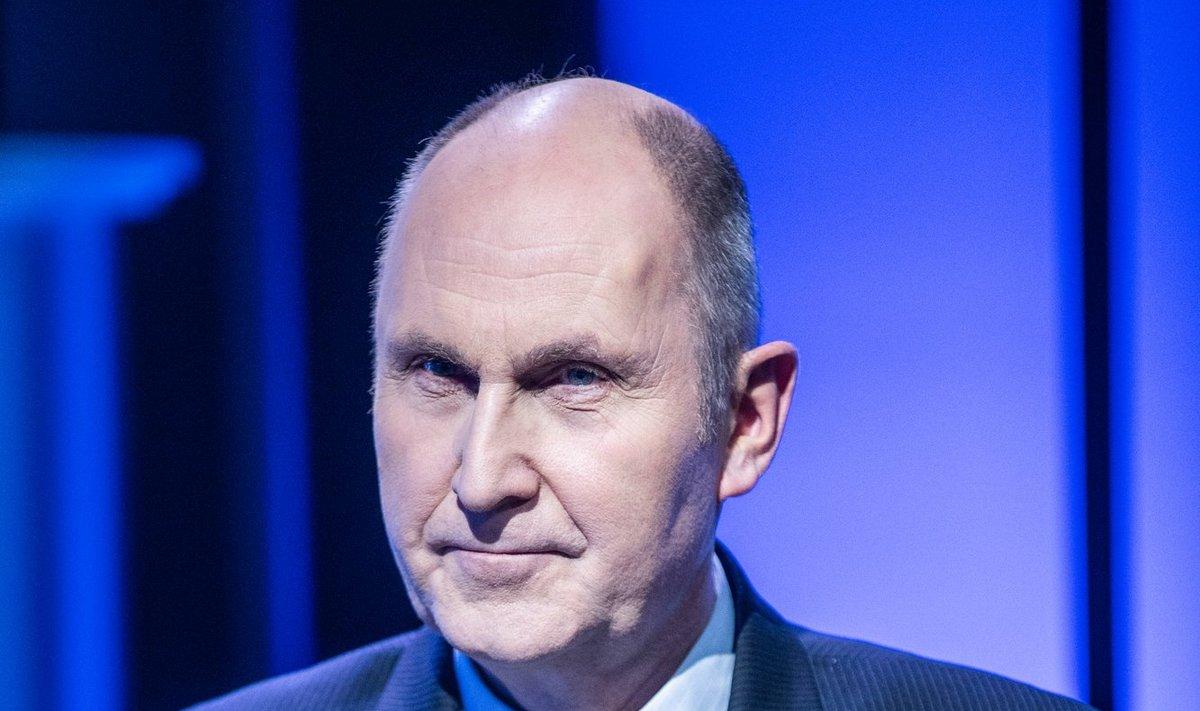
Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин: у РФ сейчас нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии
30.12.25 15
В ФРГ не хотят допустить партию Альтернатива для Германии в Мюнхен на конференцию по безопасности
28.12.25 29

Зеленский: если не закончить войну как можно быстрее, это будет риском для всех стран мира
28.12.25 26

Министр иностранных дел Цахкна о судьбе мирного плана: у Путина нет никакой необходимости куда-то спешить
28.12.25 29









