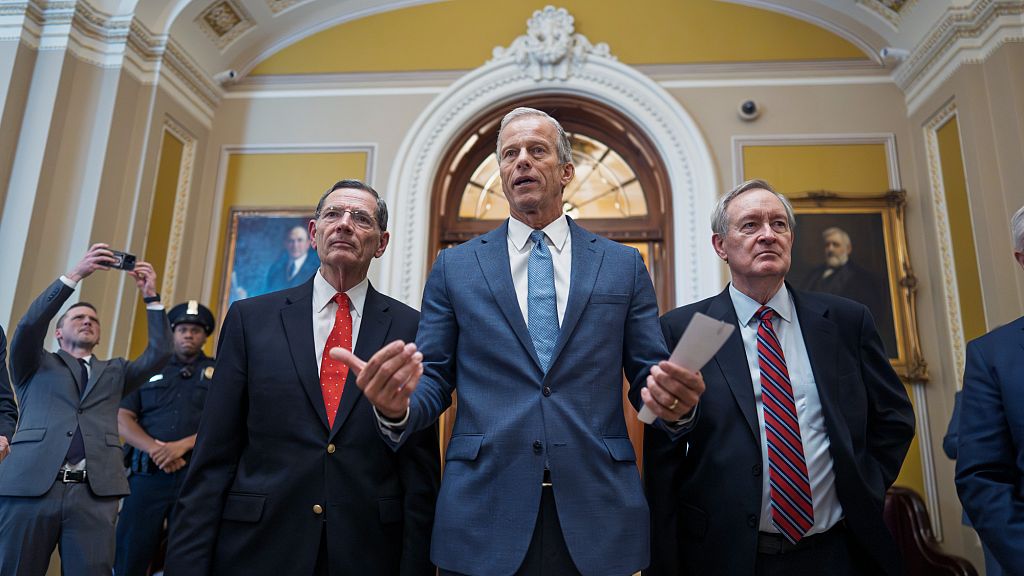Игорь-Северянин. От Гороховой до Гороховой. 2
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
29.08.22 | 3817

Своей ненужной глубиной,
Своею юнью осиянной
И первой страстностью больной...
Поэт называл Гатчину «музеем свой весны». Гатчинские парки Сильвия и Зверинец, озера Серебряное и Большое, павильон Венеры, Птичник и Ферма служили ему источником вдохновения. В Гатчине и её окрестностях написана бòльшая часть дореволюционных стихотворений.
С Гатчиной связана история его первой любви. В Гатчине он познакомился с поэтом Константином Фофановым, внушившим ему идею личной гениальности, тесно связанной с безумием: «Мысль до безумия. Безумие индивидуально». В десяти верстах от Гатчины в Ивановке жила деревенская любовница Игоря-Северянина кума Матреша (Предгрозя). О ней мы знаем только, что она была молодой ингерманландкой.
Здесь, в Гатчине жил близкий приятель поэта Пётр Ларионов, которому посвящён знаменитый триолет.
Мне что-то холодно... А в комнате тепло:
Плита натоплена, как сердце нежной лаской.
Я очарован сна загадочною сказкой,
Но все же холодно, а в комнате тепло.
Рассудок замер. Скорбь целует мне чело.
Таинственная связь грозит своей развязкой,
Всегда мне холодно… другим всегда тепло!..
Я иссверлён теплом, как сердце — едкой лаской…
В Гатчине стартовал и финишировал феерический роман с певичкой Диной.
От грёз своих: красивое контральто
Нарушило мечты мои: «О ком вы
Мечтаете и не меня ли ждёте?»
То новая моя знакомка Дина
Подъехала бесшумно в лодке и, швартуясь
У борта «Грёзы», вкрадчиво спросила:
«Переходите же ко мне скорее,
И поплывём куда-нибудь подальше:
Я вас сведу на остров отдалённый,
На остров голубой и доброй Феи».
Не добрая и голубая фея
Владела этим островом, а злая
Коварная, дурманящая разум.
И было имя этой феи — Бред.
И мы подпали под её влиянье.
Мы покорялись всем её причудам,
Безвольными игрушками мы стали
Бесчисленных эксцессов развращённой.
Жестоко-похотливой феи Бред.
Я был в бреду: мне диким не казалось,
Что женщина, душе моей чужая,
Меня целует судорожно в губы,
Принадлежащие совсем другой.
И с широко раскрытыми глазами,
В которых пышет явное безумье,
Это про Дину, разрушившую летом 1906 года роман с девушкой, которая в поэзах носит ласковое имя Злата. Летом 1905 года Игорь Лотарев, в расстроенных патриотических чувствах, забрёл однажды в каморку сторожа (дворника) при соборе Петра и Павла. Если обойти собор Петра и Павла, архитектора Кузьминым, слева, то до сих пор можно видеть вход в сторожку.
Сторож Тимофей Гуцан – многодетный вдовец – человек гостеприимный. Выпили водки за помин подвигов русского флота: крейсера «Варяг», канонерской лодки «Кореец. В разгар вечеринки из Петербурга приехала Евгения - старшая дочь Тимофея, служившая в мастерской у модной портнихи. Знакомство быстро переросло в любовь, продолжилось только зимой. И теперь мы знаем, что злой разлучницей стала певичка Дина. Отношения со Златой были испорчены безнадёжно, но много лет поэт искал и находил милые черты Златы во множестве других женщин. Он посвящал этим женщинам стихи, которые в сущности своей обращены только к Злате:
Пейзаж ея лица, исполненный так живо
Вибрацией весны влюблённых душ и тел,
Я для грядущего запечатлеть хотел...
Был у поэта один пунктик – последовательные романы с сёстрами. В Ивановке поэт поселил сестру певички Дины Зинаиду. В стихах она поименована как Раиса. Однажды, приехав из Петербурга не ко времени, он застал у Раисы шумную и пьяную компанию:
Брюнеты, бородатые, седые...
Кто — в армяке, кто — телеграфный чин...
Солдат, писец... Угодники святые!
Не брежу ль я?.. Но что творится там? —
Пустых пивных бутылок батареи...
Дымят, кричат, ругаются... «Не дам! —
Орёт солдат: — Моя она!..» Быстрее,
Чем ураган, мелькают предо мной
Развратныя дурманящия сцены...
Мне кажется: в избе краснеют стены!
Распутной Раисе мы обязаны знакомством Игоря Лотарева с последним поэтом XIX века Константином Фофановым. В конце ноября Игорь Лотарев приежает в Пудость вместе с известным в Петербурге спиритом и мистиком полковником Дашковым (Дашкевичем). После завтрака Дашков читает стихи Фофанова и предлагает познакомиться с автором. В сумерках у одного из многочисленных гатчинских железнодорожных переездов приятели встречают мужичка в лохматой шапке, который по прихоти судьбы оказывается Константином Фофановым.
К советской власти накопилось много претензий, мы добавим ещё одну. Историческая топонимика в Гатчине вырезана под корень. Вы не найдёте на карте города проспекта императора Павла I, Ольгинской, Александровской, Николаевской, Боговутовской, Загвоздинской, Кирочной и прочих исторических улиц. Вместо них: Проспект 25 октября, улицы Карла Маркса, Урицкого, Володарского, Чкалова, Горького, лейтенанта Шмидта, Коли Подрядчикова и т.д. Понятно, когда именем Горького называют новую улицу, но, когда ради пролетарского идиотизма переименовывают Бомбардирскую – понять и принять сложно.
Константин Михайлович Фофанов прожил в Гатчине с 1888-го по 1909 год. За это время он сменил более 20 адресов. Обременённый многодетной семьёй, полунищий, Фофанов был вынужден часто менять жилье, за которое не всегда был в состоянии заплатить. Вот несколько его гатчинских адресов: Госпитальная, 11; Мариинская, 7; Боговутовская, дом Дундуковой; Александровская, 13, 33, 35; Ольгинская, 24 и Елизаветинская, 9. Жил Фофанов и на проспекте императора Павла I в доме купца Слащева. На улице Достоевского (Елизаветинская) есть мемориальная доска Фофанову, но говорят, что ни один из 20 домов, в которых он действительно жил, не сохранился. В краеведческом музее (дом художника Щербова) есть небольшую витрина с личными вещами Константина Фофанова: обломок трости, смятая шляпа, бумажник и очки.
Всего через пять дней после знакомства, 26 ноября 1907 года, Фофанов посвящает Игорю
Лотареву акростих:
И Вас я, Игорь, вижу снова,
Готов любить я вновь и вновь.
О, почему же нездорова
Рубаки любящая кровь.
Ь – мягкий знак и я готов!
С Фофановым связана история поэтического псевдонима Игорь-Северянин. Возможно, что ласковое прозвище «Северянин» Игорь Лотарев заслужил за то, что зимой приходил к Фофанову на лыжах:
Я видел вновь весны рожденье,
Весенний плеск, весёлый гул,
Но прочитал твои творенья,
Мой Северянин, – и заснул...
И спало все в морозной неге
От рек хрустальных до высот,
И, как гигант, мелькал на снеге
При лунном свете лыжеход...
Стихи Константина Фофанова отличаются необычайной лёгкостью и ясностью, отчасти унаследованной Игорем-Северяниным. Из его современников такой же ясностью и лёгкостью пера обладала поэтесса Мирра Лохвицкая. Им обоим – отчасти своим учителям, отчасти предтечам Игорь-Северянин поклонялся всю свою жизнь. Особенно трогательным было это поклонение в молодости. Незадолго до смерти Фофанов посвятил любимому ученику короткое стихотворение:
О Игорь, мой Единственный
Шатенный трубадур!
Люблю я твой таинственный,
Лирический ажур.
К моменту знакомства поэтов Фофанов и его жена много и часто пили. После смерти поэта Игорь-Северянин напишет, что в такие моменты «и невозможное становилось возможным». Тем не менее, именно Фофанов пробудил дремавшего дотоле личного гения Игоря Лотарёва. Фофанов внушил ему идею личной гениальности. Идея проста: ум поддаётся тиражированию, безумие – индивидуально, ergo гений выше ума. С учётом того, что на Фофанове закончился литературный век, последний ученик дорого стоит:
Все люблю я в Игоре, -
Душу и перо!
Жизнь его, ты выгори
В славу и добро!
Но этот ужас беспрестанный,
Кошмар, наряженный в виссон...
Я видел в детстве сон престранный...
Не правда ли, престранный сон?
Путевой дворец императора Павла I этот неоднократно упоминается в стихах Игоря-Северянина. Существует предание о том, что некогда в той части гатчинского парка, которая называется Зверинец когда-то был охотничий павильон, но к началу века от него уже не осталось и следа. Был и другой павильон, в окрестностях которого любили охотиться Александр III и Николай II. Однако оба павильона под описание Игоря-Северянина не подходят:
Немного в сторону – плотина
У мрачной мельницы; за ней
Сонлива бедная деревня
Без веры в бодрость лучших дней.
Где в парк ворота – словно призрак,
Стоит заброшенный дворец;
Он обветшал, напоминая
Без драгоценностей ларец.
Можно себе представить, как Павел Петрович, приехавший на охоту по первой ноябрьской пороше, пьёт чай с офицерами свиты, и как внезапно распахивается дверь – гонец из Петербурга! Взмыленный, он припадает на одно колено.
– Ваше Величество! Наша матушка... Ваша матушка... – путается гонец.
– Что ей от меня надобно? – Холодно интересуется Павел Петрович.
– Государыня Императрица изволила... Изволила... – мямлит гонец.
– Что ещё?! – Внезапно раздражается Павел Петрович.
– Ваше величество! Ваша матушка... Наша матушка... Государыня Императрица... изволила быть при смерти. Вот-вот готова отдать Богу душу!
Вот уж нечаянная, но приятная новость. Наверное, Павел Петрович хмурится, но на душе у него огромное облегчение и даже радость.
Год спустя император Павел I приказывает выстроить в Пудости на месте деревянного строения каменный домик в тех же пропорциях. Домик был облицован шлифованным камнем из Пудости, а крыша покрыта черепицей. Постройка обошлась в 3200 рублей, но брать деньги из казны Павел Петрович не пожелал – это место должно было принадлежать только ему. Расплатился из собственного кармана.
Руины охотничьего домика Павла I интриговали Игоря-Северянина – «Я хотел бы тебе рассказать, как мне страшно в старинном дворце». Навеянные этим местом переживания встречаются сразу в нескольких стихотворениях:
Дворец безмолвен, дворец пустынен,
Беззвучно шепчет мне ряд легенд.
Их смысл болезнен, сюжет их длинен,
Как змеи черных ползучих лент...
У полустанка Пудость нужно перевалить через железную дорогу. Вот и мост через Ижору и на другом берегу видно здание старинной водяной мельницы, облицованное жёлтым парицким известняком. Эта мельница была построена в 1791 году для мельника Карла Штакеншнейдера. Рядом с дедовской мельницей архитектор Андрей Иоганнович Штакеншнейдер выстроил в начале XIX века двухэтажный деревянный дом, который известен как «Розовая дача».
На мельницу и на дачу к мельнику, совсем как Павел I, приходил пьянствовать Игорь-Северянин:
Андрей Антоныч, краснощекий мельник (...)
Наш постоянный ярый собутыльник,
Вдруг воспылал к моей Предгрозе страстью,
Ответной в девушке не возбуждая:
И как-то раз, во время запоздалой
На мельнице пирушки нашей, вздумав
Меня убить из ревности, огромным
Ножом взмахнул над головой моею.
Мельника остановил заведующий императорским птичником Петр Ларионов, удостоившийся ласкового прозвища «Перунчик». Он славился тем, что любил читать вслух чужие стихи. В трезвом виде он довольно сильно заикался, но, выпив водки, которую безумный трезвенник Иван Игнатьев настаивал на махорке, Ларионов приобретал необыкновенную лёгкость речи. Читая стихи, он плакал сам и заставлял плакать своих слушателей. Однажды он заставил рыдать полицейский околоток, в который был доставлен в непотребном виде. Надо полагать, веселые были у мельника Андрея Антоновича посиделки.
Недаром мыслью многогранной
Я плохо верил в униссон,
Недаром в детстве сон престранный
Я видел, вещий этот сон...
Посёлок Елизаветино, прильнувший к железной дороге, ничего из себя не представляет. Во времена Игоря-Северянина здесь был маленький железнодорожный полустанок, за ним деревня Дылицы (село Вздылицы).
В Дылицах, где Игорь-Северянин снимал дачу летом 1911 года написано более трёх десятков стихотворений. Стихотворения, написанные в Дылицах, сосредоточены в «Громокипящем кубке», хотя кое-что можно встретить и в «Златолире», и в «Ананасах в шампанском». В Дылицах написано несколько стихотворений, посвящённых Мирре Лохвицкой и только что умершему другу и учителю Константину Фофанову. В Дылицах написано стихотворение «Каретка куртизанки», по поводу которого много издевались в прессе. Особенно критики изгалялись над конструкцией «окалошить», которую Игорь-Северянин создал по старославянским образцам. В стихотворении «И рыжик, и ландыш, и слива» можно найти вполне зрелый афоризм: «Природа всегда молчалива, ея красота в немоте».
Самое скандальное стихотворение, написанное в Дылицах, это четвертая, заключительная часть "Пролога" в сборнике «Громокипящий кубок»:
Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой!..
Литературного Мессию
Во мне приветствуют порой.
Порой бранят меня площадно; -
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом (...)
В Дылицах практически ничего, кроме улицы не сохранилось. В поэзе «Nocturne» из «Громокипящего кубка» есть привязки к местности:
Я сидел на балконе, против заспанного парка,
И смотрел на ограду из подстриженных ветвей.
Мимо шёл поселянин в рыжей шляпе из поярка.
Вдалеке заливался невидимка-соловей.
Ночь баюкала вечер, уложив его в деревья.
В парке девушки пели,— без лица и без фигур.
Точно маки сплетали новобрачной королеве,
Точно встретился с ними коробейник-балагур...
Может быть, это хоры позабывшихся монахинь?..
Может быть, это нимфы обездоленных прудов?
Сколько мук нестерпимых, целомудренных и ранних,
И щемящего смеха опозоренных родов...
Дома в Дылице расположены вдоль одной стороны улицы вдоль парка. Сидя на балконе дома, выходящего фасадом на парк, вполне можно было видеть изгородь и слышать девичьи песни. Вероятно, дом этот стоял напротив пруда, где по вечерам собиралась деревенская молодёжь. От булыжной мостовой до пруда всего метров двести или того меньше.
Некоторые намёки на описание окрестностей Дылиц можно найти в поэзе «Когда ночело». Это очень нехарактерное для Игоря-Северянина по настроению стихотворение:
Уже ночело. Я был около
Монастыря. Сквозила просека.
Окрест отгуживал от колокола.
Как вдруг собака, в роде мопсика…
Глухую всенощную, охая.
Мне стало жутко, стало нужно
Людей, их слова. Очень плохо я
Себя почувствовал. Оглушенный,
Напуганный, я сел у озера.
Мне оставалось вёрст одиннадцать.
Решительность меня вдруг бросила,—
От страха я не мог подвинуться.
Своё название Елизаветино получило по последней его хозяйке княгине Елизавете Трубецкой.
На окраине парка расположен редкой красоты охотничий дворец, построенный при императрице Елизавете Петровне в стиле барокко. Парадный фасад выходит на характерный для дворцово-парковой архитектуры XVIII века цветочный партер. Дворец был разрушен. В нём царила мерзость запустения: окон нет, крыши нет, металлические балки, искорёженные жаром огня, причудливо изогнулись и рухнули внутрь, дерьмо и битые бутылки на полу. Теперь былая красота восстановлена.
Если мерзость запустения во дворце ещё имела какую-то свою логику — «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...», то видеть эту мерзость в находящейся по соседству Владимирской церкви было просто невыносимо: осквернённый алтарь, посередине которого брошен невесть откуда притащенный могильный камень начала XIX века, выбитые окна, начисто срубленная внутренняя штукатурка, вместо полов — земля, обильно сдобренная человеческим калом. Владимирская церковь была построена в 1766 году и когда-то представляла собой великолепный образец позднего барокко.
Елизаветинский дворец, пруд в парке, и Владимирская церковь — это три места, в которых Игорь-Северянин несомненно бывал, живя в Дылицах.
Роман с Елизаветой Гуцан — мисс Лиль, младшей сестрой знаменитой Златы достаточно полно и подробно описанный в стихах, финишировал летом 1912 года именно в Дылицах. Лизе не повезло: песенка «Мисс Лиль» композитора Разумного, сочинённая на ядовитые стихи Игоря-Северянина, ей посвящённые, имела успех у публики. Современный исследователь творчества поэта Михаил Шаповалов без всяких на то оснований обозвал Лизу «малолетней проституткой». Вероятно, он ориентировался исключительно на эту песенку и строки из «Поэзы без названия»:
Князь взял тебя из дворницкой. В шелка
Одел дитя, удобное для "жмурок"...
Он для тебя не вышел из полка,
А поиграл и бросил, как окурок.
Дылицы — это узел, в котором с судьбой поэта сплелись воедино ещё несколько других: судьба Лизы и её сына, судьба Семеновой и её дочери, судьба неведомой Инстассы, на время похитившей поэта у Лизы, наконец, судьба Мадлэны — Елены Новиковой. Стихи, посвящённые Новиковой, принесли поэту настоящую поэтическую славу. Судя по некоторым приметам, Новикова отдалась Игорю-Северянину летом 1911 года именно в Дылицах, возможно, что на том самом месте «по направленью к Пятой горке», где годом позже это сделала Лиза Гуцан. В поэзе для Мадлэн находим:
Я уходил к иному краю,
Но все по-прежнему сгораю
Желаньем встретить Вас у рва,
Где не встречал Вас года два! (...)
С другою женщиной, чей сын
Был создан мной на том пригорке
Вы нас встречали средь осин,
По направленью к пятой горке?
Единственная деревенская улица в Дылицах через пять вёрст приводит в деревеньку под названием Пятая горка, оказывается мы просто имеем дело с опечаткой в названии топонима. На въезде в Пятую горку можно видеть грандиозные развалины православной церкви необычной овальной формы. Внутри все то же, что некогда было в Елизаветино: осквернённый алтарь, обрушенная кровля, битые бутылки, кал.
Сразу за церковью начинается цепочка лесных озёр, вполне пригодных для рыбалки и в наше время. Для Игоря-Северянина ничего не стоило отмахать сюда пять-десять вёрст по лесной дороге ради любимой рыбалки.
В романе «Рояль Леандра» находим описание паломничества двух героинь в женский монастырь:
В лесу, над озером, на горке,
Белеет женский монастырь,
Где в каждой келье, точно в норке,
Прокипарисенный пустырь.
Там днем — молитвы покаянья,
Смиренье, кротость, воздыханья,
Души и тела тяжкий пост…
Подруге предлагает Кира
Пройтись когда-нибудь пешком —
Беру клише — «в обитель мира»,
С котомкою и с посошком,
Как ходят толпы русских странниц,
Что для вертушек и жеманниц
Из города совсем смешно,
Но радостью озарено
Для наших милых богомолок.
Lugne белкой скачет, весела,
Ей Кира вторит бодрым шагом.
Березки встали в ряд невест.
А вот блестит церковный крест.
Так шли они. Шла служба в храме.
Помылись наскоро, и — в храм,
Стоящий в соснах, точно в раме,
Прекрасней всех на свете рам.
В тот день паломников не видно,
Что, впрочем, вовсе не обидно:
Молитва любит меньше глаз.
Блажен, кто жар молитвы спас,
Кто может искренне молиться
И смысл молитвы разуметь!
В лучах зари лампадок медь
Оранжевеет, и столица
Со всем безверием своим
Отвратна путницам моим.
Считается, что это описание паломничества в Свято-Успенский Пюхтицкий женский монастырь, поскольку роман был написан в Тойла, в каких-то сорока с небольшим вёрстах от обители. Однако это не так. В романе описано паломничество в Пятогорский Богородицкий женский монастырь.
На земельном участке в окрестностях старинной помещичьей мызы «Пятая гора», подаренном в 1893 году купцом Бабановым Вохоновской Мариинской женской обители, был выстроен деревянный монастырский корпус с церковью иконы Божией Матери «Утоли моя печали». В церкви было два придела — апостола. Иакова Зеведеева и мученницы. Агриппины. В 1899 году обитель получила статус монастыря и славилась собственной иконописной мастерской. В 1930 году монастырь был закрыт, а многие монахини репрессированы. Сейчас монастырь восстанавливается.
Железнодорожная станция с громким названием «Веймарн» слегка напоминает сонную Комаровку, о которой речь впереди.
В этих местах Игорь-Северянин стал бывать с июня 1912 года. Летом того года в Пустомерже и Веймарне было написано более двух десятков стихотворений. Самое известное и одновременно скандальное — «Благодатная поэза»:
Ты набухла ребёнком! ты — весенняя почка!
У меня скоро будет златокудрая дочка.
Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на все осужденья, как на подлое свинство!
Княжеская мыза находилась в Большой Пустомерже. Мыза не сохранилась, разве что флигель. На фундаменте мызы построено одноэтажное школьное здание. Мызой владели князья Оболенские. Здесь, у княгини Оболенской Игорь-Северянин снимал дачу. Большая часть стихотворений, написанных в Пустомерже в 1912-1913 годах, вошла в сборник «Златолира». В поэзе «Невод грез»:
У меня, как в хате рыболова,
Сеть в избе, попробуй, — рыб поймай!
В гамаке, растянутом в столовой,
Я лежу, смотря в окно на май.
Оказывается, в местной речушке Нейме, которую сегодня можно перейти, почти не замочив ног, рыбу можно было ловить сетями!
Из той — исторической Пустомержи нашлось лишь несколько дубов, уцелевших во время оккупации. Остальные дубы и клёны немцы спилили на дрова. А вот княжеские яблони вымерзли перед самой войной:
В яблони в саду княгини,
Милая, в седьмом часу,
Вбеги в кисейке синей,
Лилию вплетя в косу.
«Милая» — это Елена Яковлевна Семенова, та самая, которой поэт советовал «плевать на подлое свинство» в ожидании ребёнка.
Двадцать лет назад была ещё жива старушка Вера Васильевна, чья бабушка служила горничной в доме князей Оболенских. Оболенские жили втроём: старая княгиня, князь Михаил Михайлович и его сестра София. Весной князь нанимал мужиков с подводами и местных ребятишек чистить речку. В то время в Нейме водилась и щука, и форель, и красноперка. Конюх дядя Вася был знаменит даже после того, как князей не стало:
Каждое утро смотрю на каретник
В окно столовой:
Кучер, надевши суровый передник,
Лениво без слова,
Рыжую лошадь впрягает в пролетку
Каретник не сохранился, зато домик, где жила семья повара Анкудеева, сохранился до сих пор (флигель).
В начале 1918 года в Пустомерже появились балтийские матросы. Кто-то «стукнул», что на чердаке мызы князь прячет пулемёт. Сделали обыск, но пулемёта не нашли и всё же через несколько дней за Михаилом Михайловичем приехали. Матросы вывели его из дома и усадили на телегу спиной к лошади. Князь в шубе и меховой шапке на прощанье он помахал рукой деревенским ребятишкам. Ехали недолго. На спуске к станции Веймарн с князя сняли шубу и шапку и «пустили в расход». Жителям Пустомержи запретили хоронить тело, которое провалялось в снегу дня три. Сестра Михаила Михайловича София исчезла без следа.
А вот княгиня Лидия Оболенская, урождённая фон Веймарн благодаря поэту всё же обрела плоть и кровь. Она родилась в 1849 году и ушла из жизни в 1919-ом.
Двадцать седьмое августа; семь лет
Со дня кончины Лохвицкой; седьмая
Приходит осень, вкрадчиво внимая
Моей тоске: старуха в жёлтый плед
Закутана, но вздрагивает зябко.
На зелени лужка белеет чепчик:
Опять княгиня яблоки мне шлёт,
И горничная Катя — алодевчик —
Торопится лужайку напролёт...
= А вот ещё «В саду княгини»:=
В яблони в саду княгини,
Милая, в седьмом часу,
Выбеги в кисейке синей,
Лилию вплетя в косу.
Ласково сгибая клевер,
Грёзово к тебе приду,—
К девочке и королеве,
Вызеркаленной в пруду.
Фьолево златые серьги
Вкольчены в твое ушко.
Сердцем от денных энергий
Вечером взгрустим легко...
Княгиня Оболенская упомянута в романе «Падучая стремнина». Один раз в связи с просьбой Лизы Гуцан приютить её с ребёнком в Пустомерже:
А что касается её ребёнка,
Меня письмом её сестра просила
В тринадцатому году о нём подумать.
Я жил тогда на мызе «Пустомерже», —
У старенькой княгини Оболенской
С той женщиной, которая имела
Ребёнка шестимесячного, дочку
Мою; та, несмотря на уговоры
И просьбы взять малютку, энергично
Противилась. То ревность или глупость?
Во всяком случае — жестокосердье.
И вдруг оказывается, что с княгиней Оболенской Игорь-Северянин был знаком ещё по Гатчине:
Мы с мамой переехали немедля
В излюбленную Гатчину на дачу.
Светлейшая грузинская княгиня,
Рождённая немецкая графиня,
Две комнаты сдала в своей квартире.
Она была художницей. Любила
Искусство, но была «toquee» немного.
Притом нередко сильно выпивала.
Лет сорока сановника вдовою
Оставшись, замкнуто, уединённо
На пенсии жила. Её рассказы,
Исполненные образности, дали
Впоследствии мне тему для поэзы.
Она ко мне весьма благоволила.
И часто с нею сидя на балконе,
Беседовали мы до поздней ночи.
Но беспокойный княжеский характер
И постоянные её причуды
На нервы наши, Зоечкиной смертью
Расшатанные, действовали скверно,
И через две недели, вняв советам
Знакомого профессора, мы с мамой
Себе другую дачу подыскали,
Покинув её сумрачную Светлость.
Игорь-Северянин. От Гороховой до Гороховой. 127.08.22 Начало
Прдолжение следует
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
29.08.22 | 3817

Гатчина. Мыза Ивановка
Гатчина
— Я видел в детстве сон престранный —Гатчина
Своей ненужной глубиной,
Своею юнью осиянной
И первой страстностью больной...
Поэт называл Гатчину «музеем свой весны». Гатчинские парки Сильвия и Зверинец, озера Серебряное и Большое, павильон Венеры, Птичник и Ферма служили ему источником вдохновения. В Гатчине и её окрестностях написана бòльшая часть дореволюционных стихотворений.
С Гатчиной связана история его первой любви. В Гатчине он познакомился с поэтом Константином Фофановым, внушившим ему идею личной гениальности, тесно связанной с безумием: «Мысль до безумия. Безумие индивидуально». В десяти верстах от Гатчины в Ивановке жила деревенская любовница Игоря-Северянина кума Матреша (Предгрозя). О ней мы знаем только, что она была молодой ингерманландкой.
Здесь, в Гатчине жил близкий приятель поэта Пётр Ларионов, которому посвящён знаменитый триолет.
Мне что-то холодно... А в комнате тепло:
Плита натоплена, как сердце нежной лаской.
Я очарован сна загадочною сказкой,
Но все же холодно, а в комнате тепло.
Рассудок замер. Скорбь целует мне чело.
Таинственная связь грозит своей развязкой,
Всегда мне холодно… другим всегда тепло!..
Я иссверлён теплом, как сердце — едкой лаской…
В Гатчине стартовал и финишировал феерический роман с певичкой Диной.
От грёз своих: красивое контральто
Нарушило мечты мои: «О ком вы
Мечтаете и не меня ли ждёте?»
То новая моя знакомка Дина
Подъехала бесшумно в лодке и, швартуясь
У борта «Грёзы», вкрадчиво спросила:
«Переходите же ко мне скорее,
И поплывём куда-нибудь подальше:
Я вас сведу на остров отдалённый,
На остров голубой и доброй Феи».
Не добрая и голубая фея
Владела этим островом, а злая
Коварная, дурманящая разум.
И было имя этой феи — Бред.
И мы подпали под её влиянье.
Мы покорялись всем её причудам,
Безвольными игрушками мы стали
Бесчисленных эксцессов развращённой.
Жестоко-похотливой феи Бред.
Я был в бреду: мне диким не казалось,
Что женщина, душе моей чужая,
Меня целует судорожно в губы,
Принадлежащие совсем другой.
И с широко раскрытыми глазами,
В которых пышет явное безумье,
Это про Дину, разрушившую летом 1906 года роман с девушкой, которая в поэзах носит ласковое имя Злата. Летом 1905 года Игорь Лотарев, в расстроенных патриотических чувствах, забрёл однажды в каморку сторожа (дворника) при соборе Петра и Павла. Если обойти собор Петра и Павла, архитектора Кузьминым, слева, то до сих пор можно видеть вход в сторожку.
Сторож Тимофей Гуцан – многодетный вдовец – человек гостеприимный. Выпили водки за помин подвигов русского флота: крейсера «Варяг», канонерской лодки «Кореец. В разгар вечеринки из Петербурга приехала Евгения - старшая дочь Тимофея, служившая в мастерской у модной портнихи. Знакомство быстро переросло в любовь, продолжилось только зимой. И теперь мы знаем, что злой разлучницей стала певичка Дина. Отношения со Златой были испорчены безнадёжно, но много лет поэт искал и находил милые черты Златы во множестве других женщин. Он посвящал этим женщинам стихи, которые в сущности своей обращены только к Злате:
Пейзаж ея лица, исполненный так живо
Вибрацией весны влюблённых душ и тел,
Я для грядущего запечатлеть хотел...
Был у поэта один пунктик – последовательные романы с сёстрами. В Ивановке поэт поселил сестру певички Дины Зинаиду. В стихах она поименована как Раиса. Однажды, приехав из Петербурга не ко времени, он застал у Раисы шумную и пьяную компанию:
Брюнеты, бородатые, седые...
Кто — в армяке, кто — телеграфный чин...
Солдат, писец... Угодники святые!
Не брежу ль я?.. Но что творится там? —
Пустых пивных бутылок батареи...
Дымят, кричат, ругаются... «Не дам! —
Орёт солдат: — Моя она!..» Быстрее,
Чем ураган, мелькают предо мной
Развратныя дурманящия сцены...
Мне кажется: в избе краснеют стены!
Распутной Раисе мы обязаны знакомством Игоря Лотарева с последним поэтом XIX века Константином Фофановым. В конце ноября Игорь Лотарев приежает в Пудость вместе с известным в Петербурге спиритом и мистиком полковником Дашковым (Дашкевичем). После завтрака Дашков читает стихи Фофанова и предлагает познакомиться с автором. В сумерках у одного из многочисленных гатчинских железнодорожных переездов приятели встречают мужичка в лохматой шапке, который по прихоти судьбы оказывается Константином Фофановым.
К советской власти накопилось много претензий, мы добавим ещё одну. Историческая топонимика в Гатчине вырезана под корень. Вы не найдёте на карте города проспекта императора Павла I, Ольгинской, Александровской, Николаевской, Боговутовской, Загвоздинской, Кирочной и прочих исторических улиц. Вместо них: Проспект 25 октября, улицы Карла Маркса, Урицкого, Володарского, Чкалова, Горького, лейтенанта Шмидта, Коли Подрядчикова и т.д. Понятно, когда именем Горького называют новую улицу, но, когда ради пролетарского идиотизма переименовывают Бомбардирскую – понять и принять сложно.
Константин Михайлович Фофанов прожил в Гатчине с 1888-го по 1909 год. За это время он сменил более 20 адресов. Обременённый многодетной семьёй, полунищий, Фофанов был вынужден часто менять жилье, за которое не всегда был в состоянии заплатить. Вот несколько его гатчинских адресов: Госпитальная, 11; Мариинская, 7; Боговутовская, дом Дундуковой; Александровская, 13, 33, 35; Ольгинская, 24 и Елизаветинская, 9. Жил Фофанов и на проспекте императора Павла I в доме купца Слащева. На улице Достоевского (Елизаветинская) есть мемориальная доска Фофанову, но говорят, что ни один из 20 домов, в которых он действительно жил, не сохранился. В краеведческом музее (дом художника Щербова) есть небольшую витрина с личными вещами Константина Фофанова: обломок трости, смятая шляпа, бумажник и очки.
Всего через пять дней после знакомства, 26 ноября 1907 года, Фофанов посвящает Игорю
Лотареву акростих:
И Вас я, Игорь, вижу снова,
Готов любить я вновь и вновь.
О, почему же нездорова
Рубаки любящая кровь.
Ь – мягкий знак и я готов!
С Фофановым связана история поэтического псевдонима Игорь-Северянин. Возможно, что ласковое прозвище «Северянин» Игорь Лотарев заслужил за то, что зимой приходил к Фофанову на лыжах:
Я видел вновь весны рожденье,
Весенний плеск, весёлый гул,
Но прочитал твои творенья,
Мой Северянин, – и заснул...
И спало все в морозной неге
От рек хрустальных до высот,
И, как гигант, мелькал на снеге
При лунном свете лыжеход...
Стихи Константина Фофанова отличаются необычайной лёгкостью и ясностью, отчасти унаследованной Игорем-Северяниным. Из его современников такой же ясностью и лёгкостью пера обладала поэтесса Мирра Лохвицкая. Им обоим – отчасти своим учителям, отчасти предтечам Игорь-Северянин поклонялся всю свою жизнь. Особенно трогательным было это поклонение в молодости. Незадолго до смерти Фофанов посвятил любимому ученику короткое стихотворение:
О Игорь, мой Единственный
Шатенный трубадур!
Люблю я твой таинственный,
Лирический ажур.
К моменту знакомства поэтов Фофанов и его жена много и часто пили. После смерти поэта Игорь-Северянин напишет, что в такие моменты «и невозможное становилось возможным». Тем не менее, именно Фофанов пробудил дремавшего дотоле личного гения Игоря Лотарёва. Фофанов внушил ему идею личной гениальности. Идея проста: ум поддаётся тиражированию, безумие – индивидуально, ergo гений выше ума. С учётом того, что на Фофанове закончился литературный век, последний ученик дорого стоит:
Все люблю я в Игоре, -
Душу и перо!
Жизнь его, ты выгори
В славу и добро!
Дворец Павла I
Но этот ужас беспрестанный,
Кошмар, наряженный в виссон...
Я видел в детстве сон престранный...
Не правда ли, престранный сон?
Путевой дворец императора Павла I этот неоднократно упоминается в стихах Игоря-Северянина. Существует предание о том, что некогда в той части гатчинского парка, которая называется Зверинец когда-то был охотничий павильон, но к началу века от него уже не осталось и следа. Был и другой павильон, в окрестностях которого любили охотиться Александр III и Николай II. Однако оба павильона под описание Игоря-Северянина не подходят:
Немного в сторону – плотина
У мрачной мельницы; за ней
Сонлива бедная деревня
Без веры в бодрость лучших дней.
Где в парк ворота – словно призрак,
Стоит заброшенный дворец;
Он обветшал, напоминая
Без драгоценностей ларец.
Можно себе представить, как Павел Петрович, приехавший на охоту по первой ноябрьской пороше, пьёт чай с офицерами свиты, и как внезапно распахивается дверь – гонец из Петербурга! Взмыленный, он припадает на одно колено.
– Ваше Величество! Наша матушка... Ваша матушка... – путается гонец.
– Что ей от меня надобно? – Холодно интересуется Павел Петрович.
– Государыня Императрица изволила... Изволила... – мямлит гонец.
– Что ещё?! – Внезапно раздражается Павел Петрович.
– Ваше величество! Ваша матушка... Наша матушка... Государыня Императрица... изволила быть при смерти. Вот-вот готова отдать Богу душу!
Вот уж нечаянная, но приятная новость. Наверное, Павел Петрович хмурится, но на душе у него огромное облегчение и даже радость.
Год спустя император Павел I приказывает выстроить в Пудости на месте деревянного строения каменный домик в тех же пропорциях. Домик был облицован шлифованным камнем из Пудости, а крыша покрыта черепицей. Постройка обошлась в 3200 рублей, но брать деньги из казны Павел Петрович не пожелал – это место должно было принадлежать только ему. Расплатился из собственного кармана.
Руины охотничьего домика Павла I интриговали Игоря-Северянина – «Я хотел бы тебе рассказать, как мне страшно в старинном дворце». Навеянные этим местом переживания встречаются сразу в нескольких стихотворениях:
Дворец безмолвен, дворец пустынен,
Беззвучно шепчет мне ряд легенд.
Их смысл болезнен, сюжет их длинен,
Как змеи черных ползучих лент...
Гатчинская мельница
У полустанка Пудость нужно перевалить через железную дорогу. Вот и мост через Ижору и на другом берегу видно здание старинной водяной мельницы, облицованное жёлтым парицким известняком. Эта мельница была построена в 1791 году для мельника Карла Штакеншнейдера. Рядом с дедовской мельницей архитектор Андрей Иоганнович Штакеншнейдер выстроил в начале XIX века двухэтажный деревянный дом, который известен как «Розовая дача».
На мельницу и на дачу к мельнику, совсем как Павел I, приходил пьянствовать Игорь-Северянин:
Андрей Антоныч, краснощекий мельник (...)
Наш постоянный ярый собутыльник,
Вдруг воспылал к моей Предгрозе страстью,
Ответной в девушке не возбуждая:
И как-то раз, во время запоздалой
На мельнице пирушки нашей, вздумав
Меня убить из ревности, огромным
Ножом взмахнул над головой моею.
Мельника остановил заведующий императорским птичником Петр Ларионов, удостоившийся ласкового прозвища «Перунчик». Он славился тем, что любил читать вслух чужие стихи. В трезвом виде он довольно сильно заикался, но, выпив водки, которую безумный трезвенник Иван Игнатьев настаивал на махорке, Ларионов приобретал необыкновенную лёгкость речи. Читая стихи, он плакал сам и заставлял плакать своих слушателей. Однажды он заставил рыдать полицейский околоток, в который был доставлен в непотребном виде. Надо полагать, веселые были у мельника Андрея Антоновича посиделки.
Елизаветино. Дылицы
Недаром мыслью многогранной
Я плохо верил в униссон,
Недаром в детстве сон престранный
Я видел, вещий этот сон...
Посёлок Елизаветино, прильнувший к железной дороге, ничего из себя не представляет. Во времена Игоря-Северянина здесь был маленький железнодорожный полустанок, за ним деревня Дылицы (село Вздылицы).
В Дылицах, где Игорь-Северянин снимал дачу летом 1911 года написано более трёх десятков стихотворений. Стихотворения, написанные в Дылицах, сосредоточены в «Громокипящем кубке», хотя кое-что можно встретить и в «Златолире», и в «Ананасах в шампанском». В Дылицах написано несколько стихотворений, посвящённых Мирре Лохвицкой и только что умершему другу и учителю Константину Фофанову. В Дылицах написано стихотворение «Каретка куртизанки», по поводу которого много издевались в прессе. Особенно критики изгалялись над конструкцией «окалошить», которую Игорь-Северянин создал по старославянским образцам. В стихотворении «И рыжик, и ландыш, и слива» можно найти вполне зрелый афоризм: «Природа всегда молчалива, ея красота в немоте».
Самое скандальное стихотворение, написанное в Дылицах, это четвертая, заключительная часть "Пролога" в сборнике «Громокипящий кубок»:
Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой!..
Литературного Мессию
Во мне приветствуют порой.
Порой бранят меня площадно; -
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом (...)
В Дылицах практически ничего, кроме улицы не сохранилось. В поэзе «Nocturne» из «Громокипящего кубка» есть привязки к местности:
Я сидел на балконе, против заспанного парка,
И смотрел на ограду из подстриженных ветвей.
Мимо шёл поселянин в рыжей шляпе из поярка.
Вдалеке заливался невидимка-соловей.
Ночь баюкала вечер, уложив его в деревья.
В парке девушки пели,— без лица и без фигур.
Точно маки сплетали новобрачной королеве,
Точно встретился с ними коробейник-балагур...
Может быть, это хоры позабывшихся монахинь?..
Может быть, это нимфы обездоленных прудов?
Сколько мук нестерпимых, целомудренных и ранних,
И щемящего смеха опозоренных родов...
Дома в Дылице расположены вдоль одной стороны улицы вдоль парка. Сидя на балконе дома, выходящего фасадом на парк, вполне можно было видеть изгородь и слышать девичьи песни. Вероятно, дом этот стоял напротив пруда, где по вечерам собиралась деревенская молодёжь. От булыжной мостовой до пруда всего метров двести или того меньше.
Некоторые намёки на описание окрестностей Дылиц можно найти в поэзе «Когда ночело». Это очень нехарактерное для Игоря-Северянина по настроению стихотворение:
Уже ночело. Я был около
Монастыря. Сквозила просека.
Окрест отгуживал от колокола.
Как вдруг собака, в роде мопсика…
Глухую всенощную, охая.
Мне стало жутко, стало нужно
Людей, их слова. Очень плохо я
Себя почувствовал. Оглушенный,
Напуганный, я сел у озера.
Мне оставалось вёрст одиннадцать.
Решительность меня вдруг бросила,—
От страха я не мог подвинуться.
Елизаветино.
Своё название Елизаветино получило по последней его хозяйке княгине Елизавете Трубецкой.
На окраине парка расположен редкой красоты охотничий дворец, построенный при императрице Елизавете Петровне в стиле барокко. Парадный фасад выходит на характерный для дворцово-парковой архитектуры XVIII века цветочный партер. Дворец был разрушен. В нём царила мерзость запустения: окон нет, крыши нет, металлические балки, искорёженные жаром огня, причудливо изогнулись и рухнули внутрь, дерьмо и битые бутылки на полу. Теперь былая красота восстановлена.
Если мерзость запустения во дворце ещё имела какую-то свою логику — «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...», то видеть эту мерзость в находящейся по соседству Владимирской церкви было просто невыносимо: осквернённый алтарь, посередине которого брошен невесть откуда притащенный могильный камень начала XIX века, выбитые окна, начисто срубленная внутренняя штукатурка, вместо полов — земля, обильно сдобренная человеческим калом. Владимирская церковь была построена в 1766 году и когда-то представляла собой великолепный образец позднего барокко.
Елизаветинский дворец, пруд в парке, и Владимирская церковь — это три места, в которых Игорь-Северянин несомненно бывал, живя в Дылицах.
Тайна Пятой горки
Роман с Елизаветой Гуцан — мисс Лиль, младшей сестрой знаменитой Златы достаточно полно и подробно описанный в стихах, финишировал летом 1912 года именно в Дылицах. Лизе не повезло: песенка «Мисс Лиль» композитора Разумного, сочинённая на ядовитые стихи Игоря-Северянина, ей посвящённые, имела успех у публики. Современный исследователь творчества поэта Михаил Шаповалов без всяких на то оснований обозвал Лизу «малолетней проституткой». Вероятно, он ориентировался исключительно на эту песенку и строки из «Поэзы без названия»:
Князь взял тебя из дворницкой. В шелка
Одел дитя, удобное для "жмурок"...
Он для тебя не вышел из полка,
А поиграл и бросил, как окурок.
Дылицы — это узел, в котором с судьбой поэта сплелись воедино ещё несколько других: судьба Лизы и её сына, судьба Семеновой и её дочери, судьба неведомой Инстассы, на время похитившей поэта у Лизы, наконец, судьба Мадлэны — Елены Новиковой. Стихи, посвящённые Новиковой, принесли поэту настоящую поэтическую славу. Судя по некоторым приметам, Новикова отдалась Игорю-Северянину летом 1911 года именно в Дылицах, возможно, что на том самом месте «по направленью к Пятой горке», где годом позже это сделала Лиза Гуцан. В поэзе для Мадлэн находим:
Я уходил к иному краю,
Но все по-прежнему сгораю
Желаньем встретить Вас у рва,
Где не встречал Вас года два! (...)
С другою женщиной, чей сын
Был создан мной на том пригорке
Вы нас встречали средь осин,
По направленью к пятой горке?
Единственная деревенская улица в Дылицах через пять вёрст приводит в деревеньку под названием Пятая горка, оказывается мы просто имеем дело с опечаткой в названии топонима. На въезде в Пятую горку можно видеть грандиозные развалины православной церкви необычной овальной формы. Внутри все то же, что некогда было в Елизаветино: осквернённый алтарь, обрушенная кровля, битые бутылки, кал.
Сразу за церковью начинается цепочка лесных озёр, вполне пригодных для рыбалки и в наше время. Для Игоря-Северянина ничего не стоило отмахать сюда пять-десять вёрст по лесной дороге ради любимой рыбалки.
Кикерино
В романе «Рояль Леандра» находим описание паломничества двух героинь в женский монастырь:
В лесу, над озером, на горке,
Белеет женский монастырь,
Где в каждой келье, точно в норке,
Прокипарисенный пустырь.
Там днем — молитвы покаянья,
Смиренье, кротость, воздыханья,
Души и тела тяжкий пост…
Подруге предлагает Кира
Пройтись когда-нибудь пешком —
Беру клише — «в обитель мира»,
С котомкою и с посошком,
Как ходят толпы русских странниц,
Что для вертушек и жеманниц
Из города совсем смешно,
Но радостью озарено
Для наших милых богомолок.
Lugne белкой скачет, весела,
Ей Кира вторит бодрым шагом.
Березки встали в ряд невест.
А вот блестит церковный крест.
Так шли они. Шла служба в храме.
Помылись наскоро, и — в храм,
Стоящий в соснах, точно в раме,
Прекрасней всех на свете рам.
В тот день паломников не видно,
Что, впрочем, вовсе не обидно:
Молитва любит меньше глаз.
Блажен, кто жар молитвы спас,
Кто может искренне молиться
И смысл молитвы разуметь!
В лучах зари лампадок медь
Оранжевеет, и столица
Со всем безверием своим
Отвратна путницам моим.
Считается, что это описание паломничества в Свято-Успенский Пюхтицкий женский монастырь, поскольку роман был написан в Тойла, в каких-то сорока с небольшим вёрстах от обители. Однако это не так. В романе описано паломничество в Пятогорский Богородицкий женский монастырь.
На земельном участке в окрестностях старинной помещичьей мызы «Пятая гора», подаренном в 1893 году купцом Бабановым Вохоновской Мариинской женской обители, был выстроен деревянный монастырский корпус с церковью иконы Божией Матери «Утоли моя печали». В церкви было два придела — апостола. Иакова Зеведеева и мученницы. Агриппины. В 1899 году обитель получила статус монастыря и славилась собственной иконописной мастерской. В 1930 году монастырь был закрыт, а многие монахини репрессированы. Сейчас монастырь восстанавливается.
Веймарн. Пустомержа Веймарн
Железнодорожная станция с громким названием «Веймарн» слегка напоминает сонную Комаровку, о которой речь впереди.
В этих местах Игорь-Северянин стал бывать с июня 1912 года. Летом того года в Пустомерже и Веймарне было написано более двух десятков стихотворений. Самое известное и одновременно скандальное — «Благодатная поэза»:
Ты набухла ребёнком! ты — весенняя почка!
У меня скоро будет златокудрая дочка.
Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на все осужденья, как на подлое свинство!
Княжеская мыза находилась в Большой Пустомерже. Мыза не сохранилась, разве что флигель. На фундаменте мызы построено одноэтажное школьное здание. Мызой владели князья Оболенские. Здесь, у княгини Оболенской Игорь-Северянин снимал дачу. Большая часть стихотворений, написанных в Пустомерже в 1912-1913 годах, вошла в сборник «Златолира». В поэзе «Невод грез»:
У меня, как в хате рыболова,
Сеть в избе, попробуй, — рыб поймай!
В гамаке, растянутом в столовой,
Я лежу, смотря в окно на май.
Оказывается, в местной речушке Нейме, которую сегодня можно перейти, почти не замочив ног, рыбу можно было ловить сетями!
Из той — исторической Пустомержи нашлось лишь несколько дубов, уцелевших во время оккупации. Остальные дубы и клёны немцы спилили на дрова. А вот княжеские яблони вымерзли перед самой войной:
В яблони в саду княгини,
Милая, в седьмом часу,
Вбеги в кисейке синей,
Лилию вплетя в косу.
«Милая» — это Елена Яковлевна Семенова, та самая, которой поэт советовал «плевать на подлое свинство» в ожидании ребёнка.
Двадцать лет назад была ещё жива старушка Вера Васильевна, чья бабушка служила горничной в доме князей Оболенских. Оболенские жили втроём: старая княгиня, князь Михаил Михайлович и его сестра София. Весной князь нанимал мужиков с подводами и местных ребятишек чистить речку. В то время в Нейме водилась и щука, и форель, и красноперка. Конюх дядя Вася был знаменит даже после того, как князей не стало:
Каждое утро смотрю на каретник
В окно столовой:
Кучер, надевши суровый передник,
Лениво без слова,
Рыжую лошадь впрягает в пролетку
Каретник не сохранился, зато домик, где жила семья повара Анкудеева, сохранился до сих пор (флигель).
В начале 1918 года в Пустомерже появились балтийские матросы. Кто-то «стукнул», что на чердаке мызы князь прячет пулемёт. Сделали обыск, но пулемёта не нашли и всё же через несколько дней за Михаилом Михайловичем приехали. Матросы вывели его из дома и усадили на телегу спиной к лошади. Князь в шубе и меховой шапке на прощанье он помахал рукой деревенским ребятишкам. Ехали недолго. На спуске к станции Веймарн с князя сняли шубу и шапку и «пустили в расход». Жителям Пустомержи запретили хоронить тело, которое провалялось в снегу дня три. Сестра Михаила Михайловича София исчезла без следа.
А вот княгиня Лидия Оболенская, урождённая фон Веймарн благодаря поэту всё же обрела плоть и кровь. Она родилась в 1849 году и ушла из жизни в 1919-ом.
Двадцать седьмое августа; семь лет
Со дня кончины Лохвицкой; седьмая
Приходит осень, вкрадчиво внимая
Моей тоске: старуха в жёлтый плед
Закутана, но вздрагивает зябко.
На зелени лужка белеет чепчик:
Опять княгиня яблоки мне шлёт,
И горничная Катя — алодевчик —
Торопится лужайку напролёт...
= А вот ещё «В саду княгини»:=
В яблони в саду княгини,
Милая, в седьмом часу,
Выбеги в кисейке синей,
Лилию вплетя в косу.
Ласково сгибая клевер,
Грёзово к тебе приду,—
К девочке и королеве,
Вызеркаленной в пруду.
Фьолево златые серьги
Вкольчены в твое ушко.
Сердцем от денных энергий
Вечером взгрустим легко...
Княгиня Оболенская упомянута в романе «Падучая стремнина». Один раз в связи с просьбой Лизы Гуцан приютить её с ребёнком в Пустомерже:
А что касается её ребёнка,
Меня письмом её сестра просила
В тринадцатому году о нём подумать.
Я жил тогда на мызе «Пустомерже», —
У старенькой княгини Оболенской
С той женщиной, которая имела
Ребёнка шестимесячного, дочку
Мою; та, несмотря на уговоры
И просьбы взять малютку, энергично
Противилась. То ревность или глупость?
Во всяком случае — жестокосердье.
И вдруг оказывается, что с княгиней Оболенской Игорь-Северянин был знаком ещё по Гатчине:
Мы с мамой переехали немедля
В излюбленную Гатчину на дачу.
Светлейшая грузинская княгиня,
Рождённая немецкая графиня,
Две комнаты сдала в своей квартире.
Она была художницей. Любила
Искусство, но была «toquee» немного.
Притом нередко сильно выпивала.
Лет сорока сановника вдовою
Оставшись, замкнуто, уединённо
На пенсии жила. Её рассказы,
Исполненные образности, дали
Впоследствии мне тему для поэзы.
Она ко мне весьма благоволила.
И часто с нею сидя на балконе,
Беседовали мы до поздней ночи.
Но беспокойный княжеский характер
И постоянные её причуды
На нервы наши, Зоечкиной смертью
Расшатанные, действовали скверно,
И через две недели, вняв советам
Знакомого профессора, мы с мамой
Себе другую дачу подыскали,
Покинув её сумрачную Светлость.
Игорь-Северянин. От Гороховой до Гороховой. 127.08.22 Начало
Прдолжение следует
Последние новости
Германия ужесточила меры для борьбы с "теневым флотом" РФ: все танкеры обязаны иметь страховку
02.07.25 22

Телефонный разговор Президента Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном
01.07.25 53

Литва и Филиппины подписали пакт о безопасности, чтобы противостоять "авторитарной оси" Китая и России
01.07.25 35