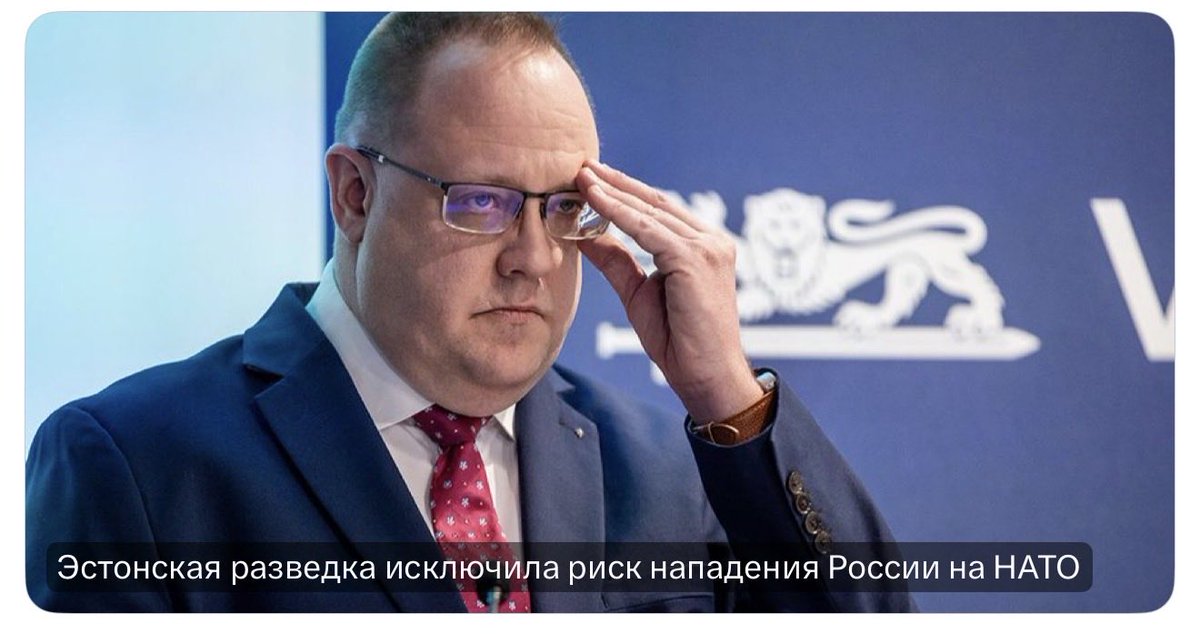Игорь-Северянин. In atrium post mortem. 6
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
30.01.19 | 1815
 Надеюсь, я убедил читателя в том, что, читая жизнеописание замечательного человека, знаменитого русского поэта Игоря-Северянина, в исполнении Шубниковой и Терехиной, приходится разгадывать шарады и кроссворды. Однако кто я и, кто они?
Надеюсь, я убедил читателя в том, что, читая жизнеописание замечательного человека, знаменитого русского поэта Игоря-Северянина, в исполнении Шубниковой и Терехиной, приходится разгадывать шарады и кроссворды. Однако кто я и, кто они?
Шубникова-Гусева Наталья Игоревна — советский и российский литературовед, специалист по Сергею Есенину, Игорю Северянину, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М.Горького Российской академии наук.

Слева Шубникова, справа Терёхина – без шансов попасть к Игорю-Северянину в королевы
Терёхина Вера Николаевна — советский и российский искусствовед, историк искусства, литературовед. Исследовательница русского авангарда, специалист по Владимиру Маяковскому, Ольге Розановой, Велимиру Хлебникову, Игорю Северянину, русскому экспрессионизму, русскому футуризму, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М.Горького РАН, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени А.М.Горького.
Если дамочки на собственном примере учат своих студентов тому, как делать нельзя, то мой низкий им поклон. Они повторяют на подвиг Ильи Мечникова, привившего себе сифилис, ради того, чтобы в XXI веке, кажется, нашли вакцину против него. В любом случае, безумству храбрых литературоведов моя песня.
Я уже писал о том, что некритический подход к некоторым академически оформленным «мемуарам» способен породить массу непоняток.
Бывает так, что мне иногда ставят в заслугу открытие того, что от воинской службы Игоря-Северянина отмазала княжна Зинаида Юсупова, бывшая в числе его поклонниц.

Записка Бехтерева из фондов РГАЛИ. В книге М.Петрова «Бокал прощенья».
Моя идея состоит в том, что без покровительства влиятельного лица добраться до Бехтерева простая санитарка Семёнова была не в состоянии. Забавно, что диагноз поставлен Бехтеревым в отсутствие пациента, как будто под влиянием его поэз. (Невроз – психическое расстройство из группы неврозов, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному умственному и физическому напряжению, малокровие, т.е. снижение концентрации гемоглобина в крови, один из синдромов невроза. Зинаида Юсупова ближайшая фигура и к армии – через мужа Феликса Юсупова и его приятеля Великого князя Дмитрия Павловича, и к медицинскому светилу Бехтереву. Кому, как ни ей было посодействовать поэту?
Как бы там ни было, но освобождение от воинской службы по причине малокровия и неврастении позволило поэту продолжить активную концертную деятельность. Жизнь продолжается!

В Харькове поэт знакомится с певичкой Марией Васильевной Волнянской (Домбровской) – тринадцатой и, значит, последней. Знакомство было совершенно случайным и состоялось на какой-то железнодорожной платформе. Порядковый номер в донжуанском списке не имеет значения, поскольку Волнянская становится гражданской женой. Уж и не знаю по какой причине, но Шубникова и Терёхина решили не использовать опубликованное мной посвящение к сборнику «Тост безответный», в печать не попавшее:
Пусть имя Марии Волнянской
Сплетётся навеки с моим:
Подвиг святой и гигантский
Её благородством вершим.
Да будет же всем для примера
(А может быть и для креста!)
Как простая дочь офицера
Была гениально проста.
И только своей простотою,
Праведным и ясным умом,
Моей овладела душою
И царствует в сердце моем.
И только своей простотою
Меня, исковерканного,
Кропит животворной росою,
Шепча золотые слова.
И только ея простотою
Осмеливаюсь объяснить,
Готовность уйти молодою,
Измучиться и не жить.
Разрушиваемая чахоткой,
Худеющая с каждым днём
С какою твёрдостью кроткой
Хлопочет во всём моём!
Заботится, оберегая
От пошлости и вина,
Она — моя дорогая —
Наносным моим больна.
Ах, вытерпела немало
От этих и от других
Она за свой труд небывалый,
За каждый удачный штрих
Ах, вытерпела немало
Из-за самого меня:
Недаром кашляет ало,
И губы суше огня.
Сознательно, идейно,
Самопожертвованно,
Отдала свой век лилейный
Мне она.
1915. Декабрь, 13.
Саратов.
(Частный архив в США.)
В этом «Посвящении» больше информации о Волнянской, чем в двух (!) страницах у Шубниковой и Терёхиной. Уж и не знаю, от чего они сделали вывод о том, что название сборника «Тост безответный» свидетельствует о том, что свою любовь к Марии Васильевне поэт считал неразделённой. Сборник вышел в 1916 году, а прожили они вместе до 1921 года – без малого шесть лет! Между тем любить женщину с диагнозом чахотка – это уже подвиг для любого мужчины, а пуще того для неприспособленного к жизни поэта. Шесть лет семейной жизни поэта дамочки уложили в две с хвостиком страницы (184-186), а полсотни (!) личных посвящений (стихотворений) Марии Васильевне попросту не заметили.
Между тем Глебовой-Судейкиной – Коломбине десятых годов, которой Игорь-Северянин посвятил аж два стихотворения! – одно прижизненное «Поэза предвесенних трепетов» и одно посмертное – «Голосистая могилка», Шубина и Терёхина выделили отдельную главу и две с половиной страницы текста. (стр. 150-152) Отдельной главы Волнянскую не удостоили, так что, 2:0 в пользу Коломбины! Мария Васильевна нервно кашляет кровью в сторонке.
Я был в тех местах под Лугой, где Игорь-Северянин и Мария Волнянское провели время с июля по сентябрь 1916 года. Вместо Корповских озёр болота, вместо пульмонологического курорта лесозаготовки и комариный рай. Шубникова и Терёхина там не были, потому что по какой-то причине Мария Васильевна им не нравится. Увы, но бывают такие случаи, когда даже две пары очков не помогают разглядеть очевидное: академический блудняк в натуре.
А вот смотрите, как академически спрессовано время в жизнеописании поэта:
«Он стал республиканцем, наш великий футурист. Воспевает Временное правительство и Совет Рабочих депутатов». Речь шла об участии Северянина в «Первом республиканском поэзовечере», который состоялся 13 мая 1917 года в Москве в зале Синодального училища. Северянин сотрудничает с Союзом деятелей искусств и 3 января 1918 года выступает на вечеринке поэтов и артистов». (Стр. 202)
Между тем с августа 1917 года Игорь-Северянин ведёт напряжённую концертную деятельность: 20 августа вечер в Политехническом музее в Москве, 18 октября вечер в зале Петровского училища в Петрограде, там же 5, 11 и 17 ноября; 28 ноября снова в Политехническом музее; 16 декабря вечер в конференц-зале Академии художеств в Петрограде; 19 декабря вновь Политехнический музей, а 23 декабря вечер в Москве в зале Синодального училища. И только с 24 декабря 1917 года по 3 января 1918 года в напряжённом концертном графике появляется брешь:
«В Рождество, пользуясь все еще праздничными днями, Северянин устремился в Тойлу, чтобы подготовить жилье и всё, связанное с будущим переселением в эстонский посёлок, и через два дня возвратился в Петроград. Поездка зимой в дачную местность и в обычное время сопряжена с трудностями, но в условиях военного и революционного хаоса, голода и разрухи собрать в дорогу старую мать, не привыкшую самостоятельно платок повязать, артистичную, но непрактичную Домбровскую!.. Позаботиться о тёплых вещах, о провизии, упаковать любимые книги, фотографии, письма, — и во главе этого женского обоза он — гений Игорь Северянин... Так, 28 января 1918 года в дни разгона Учредительного собрания они покинули Петроград и, не зная того, навсегда переехали в эстонскую Тойлу».
Бредятина академическая, уж и не знаю, кто из двоих автор. Откуда взялась дата 28 января? Я встречал её и раньше, но документального подтверждения не видел. Утверждение «дни разгона Учредительного собрания», по меньшей мере спорное – разгон состоялся в один день 6 января. Архив в Петрограде – вырезки (кипа альбомов, некогда поразившая Маяковского), книги, письма, и прочее был поручен заботам Бориса Башкирова-Верина и благополучно им утерян. И это есть академический факт, который должен быть известен двум специалисткам по творчеству Игоря-Северянина.
И вновь, не учтённый дамочками фактор времени. Декретом о введении в Российской республике западноевропейского календаря было установлено, что после 31 января 1918 года наступает не 1, а сразу 14 февраля. Именно с этой датой в России на время появляется двойной отсчёт – по Юлианскому (старый стиль) и Григорианскому (новый стиль) календарям.
Однако вернёмся к «женскому обозу». Игорь-Северянин вывез в Тойла мать Наталью Степановну, бывшую гражданскую жену Елену Семёнову с дочерью Валерией и няню Марию Неупокоеву, а вот Мария Васильевна Волнянская приехала сама, но не напрямую, а через Ревель. В стихотворении «Музе музык» находим:
Не странно ли,— тринадцатого марта,
В трехлетье неразлучной жизни нашей,
Испитое чрез край бегущей чашей,—
Что в Ревель нас забрасывает карта?
Мы в Харькове сошлись и не в Иеве ль
Мечтали провести наш день интимный?
Взамен — этап, и, сквозь Иеве, в дымный
Холодный мрак,— и попадаем в Ревель.
Почему не сразу в Тойла? Потому что 3 марта заключён Брестский мир, Нарва занята немцами и установлен карантин со всеми вытекающими неприятностями. Так что поэт встретил Волнянскую 13 марта 1918 года в Ревеле в гостинице «Золотой лев». И сей факт Шубникова с Терёхиной тоже проигнорировали.
Однако читаем дальше:
«Устроившись на новом месте, Северянин в феврале поехал на заработки в Москву <…> Опытный Долидзе организовал 23 февраля поэзовечер Игоря Северянина в Политехническом музее при участии Давида Бурлюка, Василия Каменского, Владимира Маяковского. Апофеоз поэтического соперничества наступил 27 февраля. В Москве в переполненном публикой зале Политехнического музея проходит вечер «Избрание короля поэтов». «Всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием» это звание присуждено Северянину. Второе место занимает Маяковский, третье — Бальмонт. Это была высшая точка триумфального успеха поэта, который он предчувствовал десять лет тому назад:
Я коронуюсь утром мая
Под юным солнечным лучом,
Весна, пришедшая из рая,
Чело украсит мне венцом».
27 февраля – это уже Григорианский календарь. Относительно предчувствия – перебор, привет от великого и могучего русского языка, тот самый случай, в котором настоящее или будущее время вычитывается исключительно из контекста. Смешно выдавать действие в настоящем времени за предчувствие. Наконец, что стоило провидцу вместо майского утра предчувствовать февральскую стужу?
Как вы полагаете, для жизнеописания замечательного человека избрание его королём поэтов является значительным событием или нет? Шубникова и Терёхина уделили этому событию целых четыре страницы (стр. 203-206), составленных целиком из цитат.
Следующий академический ляп – обширная цитата из воспоминаний Константина Паустовского, пристёгнутая к выборам «Короля поэтов» без каких бы то ни было объяснений, так, словно, мемуарист был очевидцем события. Воспоминания Паустовского относятся к 1915 году и к событиям февраля 1918 года не имеют никакого отношения. К Паустовскому подвёрстаны воспоминания Рубена Симонова, хотя и не обозначенные как цитата:
«Бюллетени подсчитаны — королём поэтов избран Игорь Северянин. На голову поэта возлагается лавровый венок. Его чествуют поклонники. Я ухожу огорчённый. Почему не Маяковский?
Прошло лет десять после этого вечера. Как-то, идя по Никитскому бульвару, я встречаю Василия Каменского. Мы направляемся в пивной бар, который находился в конце Никитского бульвара. Вспоминаем недавнее прошлое, диспуты в Политехническом, вечер избрания "короля поэтов".
— Как же так получилось, что избран был Игорь Северянин — задал я вопрос Василию Васильевичу.
— О, да это преинтереснейшая история, — весело отвечает Каменский. — Мы решили, что одному из нас почести, другим — деньги. Мы сами подсыпали фальшивые бюллетени за Северянина. Ему — лавровый венок, а нам — Маяковскому, мне, Бурлюку — деньги. А сбор был огромный!»
Начнём с того, что гонорар за участие в мероприятии получили все официальные участники и венок никак не мог повлиять на его размер. Дополнительный доход предполагалось получить с эксплуатации титула. Так что или Каменский врёт как очевидец, или Симонов намеренно искажает его слова.
Кстати, о венках. Шубникова и Терёхина не знают о существовании воспоминаний Якова Черняка «В незабываемые дни» (Новый мир, № 7, 1963). Между тем именно воспоминания Черняка, не вписанного в интригу лично, имеют ключевой характер:
«В Москве в конце февраля 1918 года были назначены выборы короля поэтов. Выборы должны были состояться в Политехническом музее, в Большой аудитории.
Ряд поэтов, объявленных в афише, не приехал — например, К.Бальмонт. Стихи петербургских поэтов читали артисты. Среди многих выступающих на этом своеобразном вечере были Маяковский и Игорь Северянин. Страстные споры, крики и свистки то и дело возникали в аудитории, а в перерыве дело дошло чуть не до драки между сторонниками Северянина и Маяковского.
Маяковский читал замечательно. Он читал начало «Облака» и только что сработанный "Наш марш"... <ноябрь 1917 года – прим.публикатора> Королем был избран Северянин — за ним по количеству голосов следовал Маяковский. Кажется, голосов тридцать или сорок решили эту ошибку публики.
Из ближайшего похоронного бюро был заранее доставлен взятый на прокат огромный миртовый венок. Он был возложен на шею тощего, длинного, в долгополом чёрном сюртуке Северянина, который должен был в венке ещё прочитать стихи. Венок свисал до колен.
Он заложил руки за спину, вытянулся и запел что-то из северянинской "классики".
Такая же процедура должна была быть проделана с Маяковским, избранным вице-королем. Но Маяковский резким жестом отстранил и венок, и людей, пытавшихся на него надеть венок, и с возгласом: "Не позволю!" — вскочил на кафедру и прочитал, стоя на столе, третью часть "Облака" <опубликовано 17 марта 1917 года – прим.публикатора>.
В аудитории творилось нечто невообразимое. Крики, свистки, аплодисменты смешались в сплошной грохот...»
Маяковский был брезглив и это для специалистов калибра доктора филологических наук, профессора Терёхиной, к тому же специалистки по Маяковскому не должно быть секретом, однако же…
Узнав про миртовый венок из похоронного бюро, Маяковский запаниковал и уже не так важно была подтасовка при голосовании или нет: аксессуар из похоронного бюро и Маяковский вещи несовместимые во времени и пространстве.
О сколько нам открытий чудных готовит жизнеописание эмигрантской жизни поэта!
Продолжение следует.
__________________
Начало смотри здесь,
продолжение 2 здесь,
продолжение 3 здесь
продолжение 4 здесь
продолжение 5 здесь
Источник: | Фото взято из оригинала статьи или из открытых источников
30.01.19 | 1815
 Надеюсь, я убедил читателя в том, что, читая жизнеописание замечательного человека, знаменитого русского поэта Игоря-Северянина, в исполнении Шубниковой и Терехиной, приходится разгадывать шарады и кроссворды. Однако кто я и, кто они?
Надеюсь, я убедил читателя в том, что, читая жизнеописание замечательного человека, знаменитого русского поэта Игоря-Северянина, в исполнении Шубниковой и Терехиной, приходится разгадывать шарады и кроссворды. Однако кто я и, кто они?Шубникова-Гусева Наталья Игоревна — советский и российский литературовед, специалист по Сергею Есенину, Игорю Северянину, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М.Горького Российской академии наук.

Слева Шубникова, справа Терёхина – без шансов попасть к Игорю-Северянину в королевы
Терёхина Вера Николаевна — советский и российский искусствовед, историк искусства, литературовед. Исследовательница русского авангарда, специалист по Владимиру Маяковскому, Ольге Розановой, Велимиру Хлебникову, Игорю Северянину, русскому экспрессионизму, русскому футуризму, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М.Горького РАН, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени А.М.Горького.
Если дамочки на собственном примере учат своих студентов тому, как делать нельзя, то мой низкий им поклон. Они повторяют на подвиг Ильи Мечникова, привившего себе сифилис, ради того, чтобы в XXI веке, кажется, нашли вакцину против него. В любом случае, безумству храбрых литературоведов моя песня.
Я уже писал о том, что некритический подход к некоторым академически оформленным «мемуарам» способен породить массу непоняток.
Бывает так, что мне иногда ставят в заслугу открытие того, что от воинской службы Игоря-Северянина отмазала княжна Зинаида Юсупова, бывшая в числе его поклонниц.

Записка Бехтерева из фондов РГАЛИ. В книге М.Петрова «Бокал прощенья».
Моя идея состоит в том, что без покровительства влиятельного лица добраться до Бехтерева простая санитарка Семёнова была не в состоянии. Забавно, что диагноз поставлен Бехтеревым в отсутствие пациента, как будто под влиянием его поэз. (Невроз – психическое расстройство из группы неврозов, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному умственному и физическому напряжению, малокровие, т.е. снижение концентрации гемоглобина в крови, один из синдромов невроза. Зинаида Юсупова ближайшая фигура и к армии – через мужа Феликса Юсупова и его приятеля Великого князя Дмитрия Павловича, и к медицинскому светилу Бехтереву. Кому, как ни ей было посодействовать поэту?
Как бы там ни было, но освобождение от воинской службы по причине малокровия и неврастении позволило поэту продолжить активную концертную деятельность. Жизнь продолжается!

В Харькове поэт знакомится с певичкой Марией Васильевной Волнянской (Домбровской) – тринадцатой и, значит, последней. Знакомство было совершенно случайным и состоялось на какой-то железнодорожной платформе. Порядковый номер в донжуанском списке не имеет значения, поскольку Волнянская становится гражданской женой. Уж и не знаю по какой причине, но Шубникова и Терёхина решили не использовать опубликованное мной посвящение к сборнику «Тост безответный», в печать не попавшее:
Пусть имя Марии Волнянской
Сплетётся навеки с моим:
Подвиг святой и гигантский
Её благородством вершим.
Да будет же всем для примера
(А может быть и для креста!)
Как простая дочь офицера
Была гениально проста.
И только своей простотою,
Праведным и ясным умом,
Моей овладела душою
И царствует в сердце моем.
И только своей простотою
Меня, исковерканного,
Кропит животворной росою,
Шепча золотые слова.
И только ея простотою
Осмеливаюсь объяснить,
Готовность уйти молодою,
Измучиться и не жить.
Разрушиваемая чахоткой,
Худеющая с каждым днём
С какою твёрдостью кроткой
Хлопочет во всём моём!
Заботится, оберегая
От пошлости и вина,
Она — моя дорогая —
Наносным моим больна.
Ах, вытерпела немало
От этих и от других
Она за свой труд небывалый,
За каждый удачный штрих
Ах, вытерпела немало
Из-за самого меня:
Недаром кашляет ало,
И губы суше огня.
Сознательно, идейно,
Самопожертвованно,
Отдала свой век лилейный
Мне она.
1915. Декабрь, 13.
Саратов.
(Частный архив в США.)
В этом «Посвящении» больше информации о Волнянской, чем в двух (!) страницах у Шубниковой и Терёхиной. Уж и не знаю, от чего они сделали вывод о том, что название сборника «Тост безответный» свидетельствует о том, что свою любовь к Марии Васильевне поэт считал неразделённой. Сборник вышел в 1916 году, а прожили они вместе до 1921 года – без малого шесть лет! Между тем любить женщину с диагнозом чахотка – это уже подвиг для любого мужчины, а пуще того для неприспособленного к жизни поэта. Шесть лет семейной жизни поэта дамочки уложили в две с хвостиком страницы (184-186), а полсотни (!) личных посвящений (стихотворений) Марии Васильевне попросту не заметили.
Между тем Глебовой-Судейкиной – Коломбине десятых годов, которой Игорь-Северянин посвятил аж два стихотворения! – одно прижизненное «Поэза предвесенних трепетов» и одно посмертное – «Голосистая могилка», Шубина и Терёхина выделили отдельную главу и две с половиной страницы текста. (стр. 150-152) Отдельной главы Волнянскую не удостоили, так что, 2:0 в пользу Коломбины! Мария Васильевна нервно кашляет кровью в сторонке.
Я был в тех местах под Лугой, где Игорь-Северянин и Мария Волнянское провели время с июля по сентябрь 1916 года. Вместо Корповских озёр болота, вместо пульмонологического курорта лесозаготовки и комариный рай. Шубникова и Терёхина там не были, потому что по какой-то причине Мария Васильевна им не нравится. Увы, но бывают такие случаи, когда даже две пары очков не помогают разглядеть очевидное: академический блудняк в натуре.
А вот смотрите, как академически спрессовано время в жизнеописании поэта:
«Он стал республиканцем, наш великий футурист. Воспевает Временное правительство и Совет Рабочих депутатов». Речь шла об участии Северянина в «Первом республиканском поэзовечере», который состоялся 13 мая 1917 года в Москве в зале Синодального училища. Северянин сотрудничает с Союзом деятелей искусств и 3 января 1918 года выступает на вечеринке поэтов и артистов». (Стр. 202)
Между тем с августа 1917 года Игорь-Северянин ведёт напряжённую концертную деятельность: 20 августа вечер в Политехническом музее в Москве, 18 октября вечер в зале Петровского училища в Петрограде, там же 5, 11 и 17 ноября; 28 ноября снова в Политехническом музее; 16 декабря вечер в конференц-зале Академии художеств в Петрограде; 19 декабря вновь Политехнический музей, а 23 декабря вечер в Москве в зале Синодального училища. И только с 24 декабря 1917 года по 3 января 1918 года в напряжённом концертном графике появляется брешь:
«В Рождество, пользуясь все еще праздничными днями, Северянин устремился в Тойлу, чтобы подготовить жилье и всё, связанное с будущим переселением в эстонский посёлок, и через два дня возвратился в Петроград. Поездка зимой в дачную местность и в обычное время сопряжена с трудностями, но в условиях военного и революционного хаоса, голода и разрухи собрать в дорогу старую мать, не привыкшую самостоятельно платок повязать, артистичную, но непрактичную Домбровскую!.. Позаботиться о тёплых вещах, о провизии, упаковать любимые книги, фотографии, письма, — и во главе этого женского обоза он — гений Игорь Северянин... Так, 28 января 1918 года в дни разгона Учредительного собрания они покинули Петроград и, не зная того, навсегда переехали в эстонскую Тойлу».
Бредятина академическая, уж и не знаю, кто из двоих автор. Откуда взялась дата 28 января? Я встречал её и раньше, но документального подтверждения не видел. Утверждение «дни разгона Учредительного собрания», по меньшей мере спорное – разгон состоялся в один день 6 января. Архив в Петрограде – вырезки (кипа альбомов, некогда поразившая Маяковского), книги, письма, и прочее был поручен заботам Бориса Башкирова-Верина и благополучно им утерян. И это есть академический факт, который должен быть известен двум специалисткам по творчеству Игоря-Северянина.
И вновь, не учтённый дамочками фактор времени. Декретом о введении в Российской республике западноевропейского календаря было установлено, что после 31 января 1918 года наступает не 1, а сразу 14 февраля. Именно с этой датой в России на время появляется двойной отсчёт – по Юлианскому (старый стиль) и Григорианскому (новый стиль) календарям.
Однако вернёмся к «женскому обозу». Игорь-Северянин вывез в Тойла мать Наталью Степановну, бывшую гражданскую жену Елену Семёнову с дочерью Валерией и няню Марию Неупокоеву, а вот Мария Васильевна Волнянская приехала сама, но не напрямую, а через Ревель. В стихотворении «Музе музык» находим:
Не странно ли,— тринадцатого марта,
В трехлетье неразлучной жизни нашей,
Испитое чрез край бегущей чашей,—
Что в Ревель нас забрасывает карта?
Мы в Харькове сошлись и не в Иеве ль
Мечтали провести наш день интимный?
Взамен — этап, и, сквозь Иеве, в дымный
Холодный мрак,— и попадаем в Ревель.
Почему не сразу в Тойла? Потому что 3 марта заключён Брестский мир, Нарва занята немцами и установлен карантин со всеми вытекающими неприятностями. Так что поэт встретил Волнянскую 13 марта 1918 года в Ревеле в гостинице «Золотой лев». И сей факт Шубникова с Терёхиной тоже проигнорировали.
Однако читаем дальше:
«Устроившись на новом месте, Северянин в феврале поехал на заработки в Москву <…> Опытный Долидзе организовал 23 февраля поэзовечер Игоря Северянина в Политехническом музее при участии Давида Бурлюка, Василия Каменского, Владимира Маяковского. Апофеоз поэтического соперничества наступил 27 февраля. В Москве в переполненном публикой зале Политехнического музея проходит вечер «Избрание короля поэтов». «Всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием» это звание присуждено Северянину. Второе место занимает Маяковский, третье — Бальмонт. Это была высшая точка триумфального успеха поэта, который он предчувствовал десять лет тому назад:
Я коронуюсь утром мая
Под юным солнечным лучом,
Весна, пришедшая из рая,
Чело украсит мне венцом».
27 февраля – это уже Григорианский календарь. Относительно предчувствия – перебор, привет от великого и могучего русского языка, тот самый случай, в котором настоящее или будущее время вычитывается исключительно из контекста. Смешно выдавать действие в настоящем времени за предчувствие. Наконец, что стоило провидцу вместо майского утра предчувствовать февральскую стужу?
Как вы полагаете, для жизнеописания замечательного человека избрание его королём поэтов является значительным событием или нет? Шубникова и Терёхина уделили этому событию целых четыре страницы (стр. 203-206), составленных целиком из цитат.
Следующий академический ляп – обширная цитата из воспоминаний Константина Паустовского, пристёгнутая к выборам «Короля поэтов» без каких бы то ни было объяснений, так, словно, мемуарист был очевидцем события. Воспоминания Паустовского относятся к 1915 году и к событиям февраля 1918 года не имеют никакого отношения. К Паустовскому подвёрстаны воспоминания Рубена Симонова, хотя и не обозначенные как цитата:
«Бюллетени подсчитаны — королём поэтов избран Игорь Северянин. На голову поэта возлагается лавровый венок. Его чествуют поклонники. Я ухожу огорчённый. Почему не Маяковский?
Прошло лет десять после этого вечера. Как-то, идя по Никитскому бульвару, я встречаю Василия Каменского. Мы направляемся в пивной бар, который находился в конце Никитского бульвара. Вспоминаем недавнее прошлое, диспуты в Политехническом, вечер избрания "короля поэтов".
— Как же так получилось, что избран был Игорь Северянин — задал я вопрос Василию Васильевичу.
— О, да это преинтереснейшая история, — весело отвечает Каменский. — Мы решили, что одному из нас почести, другим — деньги. Мы сами подсыпали фальшивые бюллетени за Северянина. Ему — лавровый венок, а нам — Маяковскому, мне, Бурлюку — деньги. А сбор был огромный!»
Начнём с того, что гонорар за участие в мероприятии получили все официальные участники и венок никак не мог повлиять на его размер. Дополнительный доход предполагалось получить с эксплуатации титула. Так что или Каменский врёт как очевидец, или Симонов намеренно искажает его слова.
Кстати, о венках. Шубникова и Терёхина не знают о существовании воспоминаний Якова Черняка «В незабываемые дни» (Новый мир, № 7, 1963). Между тем именно воспоминания Черняка, не вписанного в интригу лично, имеют ключевой характер:
«В Москве в конце февраля 1918 года были назначены выборы короля поэтов. Выборы должны были состояться в Политехническом музее, в Большой аудитории.
Ряд поэтов, объявленных в афише, не приехал — например, К.Бальмонт. Стихи петербургских поэтов читали артисты. Среди многих выступающих на этом своеобразном вечере были Маяковский и Игорь Северянин. Страстные споры, крики и свистки то и дело возникали в аудитории, а в перерыве дело дошло чуть не до драки между сторонниками Северянина и Маяковского.
Маяковский читал замечательно. Он читал начало «Облака» и только что сработанный "Наш марш"... <ноябрь 1917 года – прим.публикатора> Королем был избран Северянин — за ним по количеству голосов следовал Маяковский. Кажется, голосов тридцать или сорок решили эту ошибку публики.
Из ближайшего похоронного бюро был заранее доставлен взятый на прокат огромный миртовый венок. Он был возложен на шею тощего, длинного, в долгополом чёрном сюртуке Северянина, который должен был в венке ещё прочитать стихи. Венок свисал до колен.
Он заложил руки за спину, вытянулся и запел что-то из северянинской "классики".
Такая же процедура должна была быть проделана с Маяковским, избранным вице-королем. Но Маяковский резким жестом отстранил и венок, и людей, пытавшихся на него надеть венок, и с возгласом: "Не позволю!" — вскочил на кафедру и прочитал, стоя на столе, третью часть "Облака" <опубликовано 17 марта 1917 года – прим.публикатора>.
В аудитории творилось нечто невообразимое. Крики, свистки, аплодисменты смешались в сплошной грохот...»
Маяковский был брезглив и это для специалистов калибра доктора филологических наук, профессора Терёхиной, к тому же специалистки по Маяковскому не должно быть секретом, однако же…
Узнав про миртовый венок из похоронного бюро, Маяковский запаниковал и уже не так важно была подтасовка при голосовании или нет: аксессуар из похоронного бюро и Маяковский вещи несовместимые во времени и пространстве.
О сколько нам открытий чудных готовит жизнеописание эмигрантской жизни поэта!
Продолжение следует.
__________________
Начало смотри здесь,
продолжение 2 здесь,
продолжение 3 здесь
продолжение 4 здесь
продолжение 5 здесь